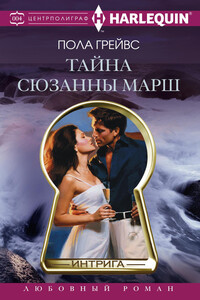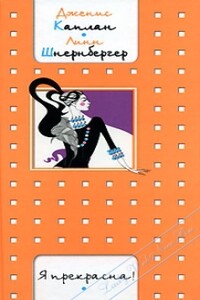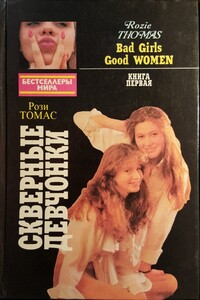Большое кино | страница 24
Либерти показала ей два пальца и продолжила препирательства с Морти. Она представляла его в костюме с искрой, сидящим в своем роскошном кабинете, набитом дорогими канцелярскими принадлежностями, с видом на Центральный парк. Часто лицом человека являются его персональные бланки. На розовых бланках Рича вверху было выведено большими алыми буквами «МОРТИ», а внизу добавлено сиреневым шрифтом «Рич»[1]. Дальнейших разъяснений не требовалось.
— Ты меня удивляешь. Либерти: ведь ты обедала с его женой и ребенком! — стыдил ее Морти.
— Более того, нюхала кокаин с макушки его слуги! Слуга у него — лысый карлик; неудивительно, что у него не получаются фильмы. Да у него задница вместо мозгов! — Людям нравилось, когда она давала волю языку, монастырская послушница, бранящаяся, как портовая шлюха, — что может быть пикантнее?
— Признайся, Либерти, твоя мать гордится тем, чем занимается ее дочь?
— Не знаю, Морти. Я сирота.
Короткие гудки. Информация о сиротстве всегда действовала как гром среди ясного неба. После этого дальнейшие препирательства становились невозможными.
Либерти вздохнула и послушно поплелась за дамой в костюме от Диора. Они миновали коралловый вестибюль, прошли сквозь мрачный, в бурых тонах кабинет и оказались в просторном помещении, устланном белым ковром. Две его стены были стеклянные, другие две — беломраморные. Дама оставила Либерти в центре помещения и испарилась.
Либерти заморгала, не в силах сразу привыкнуть к окружающей белизне. Ощущение было такое, будто ее без предупреждения перенесли в снежную зиму, не снабдив солнцезащитными очками.
Арчер Рейсом, восседая, как монумент, за музейным столом с мраморной крышкой, беседовал по телефону и, казалось, не обращал ни малейшего внимания на гостью. Видимо, это было наказанием за то, что она заставила его ждать. Подойдя к окну. Либерти спокойно ждала, любуясь серовато-зеленым простором среднего Манхэттена. Чтобы полюбоваться таким видом, следовало бы штурмовать крутую гору, а не ехать на лифте.
Она отвернулась от окна и поискала глазами, где бы присесть.
Опустившись на белый диванчик, Либерти вынула блокнот и записала: «Сплошная белизна. Белые вазы с белыми цветами на столах, покрытых белой эмалью, белые мраморные пьедесталы. Совершенно неделовая атмосфера: пионы, нарциссы, жасмин. Не иначе, цветы ему привозят самолетом оттуда, где сейчас весна».
Оторвав глаза от блокнота, она обнаружила, что Рейсом, продолжая разговаривать по телефону, в упор смотрит на нее. В жизни он выглядел гораздо интереснее, чем на фотографиях: волосы цвета начищенного олова, несмываемый загар богача, глаза средиземноморской синевы с длинными черными ресницами. Уголки его губ, приподнимаясь, придавали лицу учтиво-добродушное выражение. Либерти даже подумала, что не возражала бы оказаться с ним в одной постели, — это было бы отнюдь не худшим завершением журналистского задания.