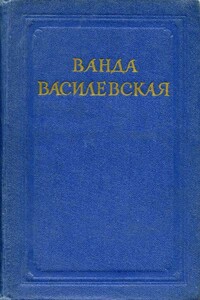Навеки — девятнадцатилетние | страница 45
Хруп, хруп — сапоги по снегу. Ожидающая тишина. Один над всеми в середине строя — голос запевалы, страшно за него: вот-вот не хватит дыхания, обронит песню. А он на последнем взлёте и себя не щадит:
Как отрубив, заглушая шаг, лихо рявкали курсантские голоса кем-то присочинённый припев:
И снова на морозе звон-хруст кованых сапог, пар изо ртов, пар над ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком, белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют: война, кто не на фронте, работает для фронта по двенадцать часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке, слепо смотрят вслед выцветшие глаза.
Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг: хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята, — ребятишки, забегают с боков поглядеть, им бы тоже — в ногу! в ногу! Да раненые в окнах госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя.
Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову ещё одну операцию: вынули из руки мелкие осколки, сшили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули», — сказал хирург.
Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист, кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде, кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал морфий у сестёр, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться, хоть сестры и смеялись над ним, говорили, что от одного укола морфинистом не становятся.
Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лёг, навалил подушку на голову и спал оглушённый. Снилось ему, будто слышит он голос, тот самый голос, что пел во дворе «Не скучай, не горюй…». И хорошо ему было слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не знал, спит он или не спит: голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул подушку. Белый свет снега в палате, белые ветки качаются за окном, и такая во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она повернула голову — на миг увидел её взволнованно блестевший глаз.