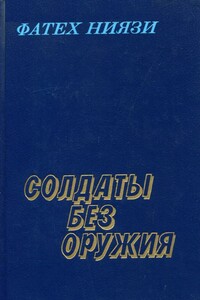Навеки — девятнадцатилетние | страница 25
— Откуда у тебя водка?
— Тут старшина пехотный… — Кытин зевнул, как щенок, показав все нЈбо. Глаза влажные, похоже, правда, спал. — Они, в пехоте, потери на другой день сообщают. Сначала водку получат, потом потери сообщат. Завтра, знаете, сколько у них будет водки!..
Третьяков глянул на часы:
— Уже сегодня, не завтра. Давай, сто грамм выпью. Он выпил из крышки, и показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребая котелок; может, в последний раз… С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может, больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встаёт, и тишина — до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой жизни ведь не будет.
Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждёшь, а оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты, никто не может этого остановить, в такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход, и потому неостановимо.
Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть.
Ночь эту, остаток её, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнём. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина была там начмед.
Под низким накатом землянки глаза его посвечи-вали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевой кожицей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищённый, и временами что-то напухало.