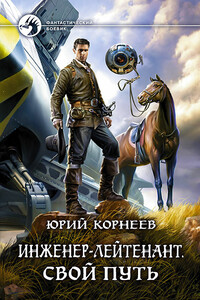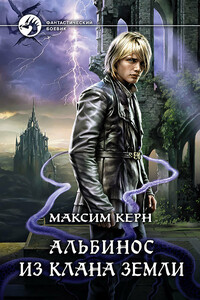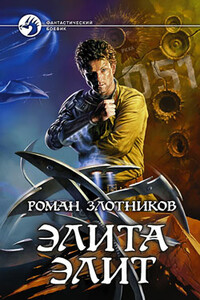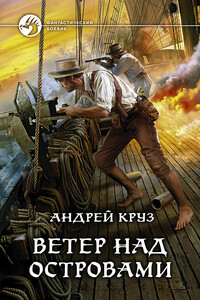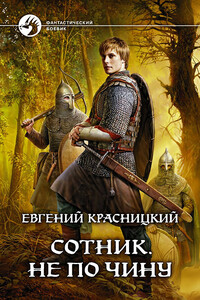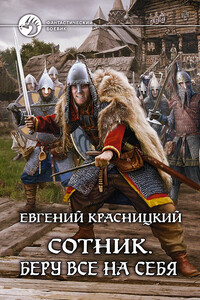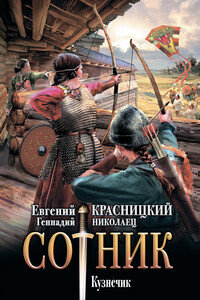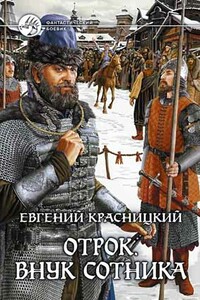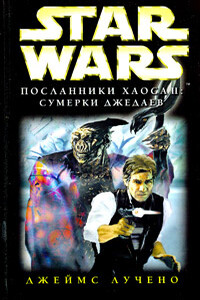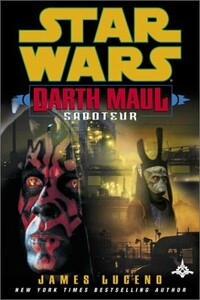Отрок. Покоренная сила | страница 74
«Дед позвал родню. Нинея намекала, что на деда в Ратном кто-то „нож точит“. Понять „кто“, в общем-то, семи пядей во лбу не нужно, но если дело идет к драке, Немого оставлять, вроде бы, нельзя — такой боец обязательно пригодится… Ладно, приедем — дед объяснит.
Но надо же будет еще и отчитаться о договоренности с Нинеей… Да, сэр, а тут-то, как раз, все не просто. И самое большое сомнение порождает резкая перемена отношения баронессы Пивенской к христианству. То она христиан своими злейшими врагами числит — отца Михаила чуть не угробила, а то — „крести, я дозволяю“.
Похоже, христиане нужны лишь на определенном этапе — пока Турово-Пинское княжество не добьется независимости и не укрепится, а потом… Все, что угодно, вплоть до Варфоломеевской ночи. Правда, такие, с позволения сказать, мероприятия, войдут в моду только лет через четыреста — во времена Реформации и религиозных войн. Однако, можно припомнить и более ранние примеры: те же крестовые походы или Альбигойские войны.
М-да, сэр, жареным от всего этого пахнет вполне отчетливо. В конце концов, почему бы циничный принцип „Чья власть, того и вера“ не изобрести в XII веке, а не в XVI? И знаменитую фразу: „Париж стоит мессы!“ — произнести не Генриху Наварскому, а Михаилу Туровскому? С учетом местной специфики, разумеется. Что-то вроде: „Туров стоит жертвы Велесу!“
Эх, ну хоть грамульку бы информации! На что способны нынешние язычники? Только по лесам прятаться, купцов на бабки выставлять, да заговоры устраивать? Ну-ка, сэр, напрягите мозги и попробуйте вспомнить хоть что-нибудь, если не из истории, так, хотя бы, из литературы. А какая сейчас литература?
Стоп! „Слово о полку Игореве“! Его, правда напишут еще только лет через девяносто — сто, но это не принципиально. Вот и пригодилась школьная зубрежка, кто бы мог подумать? Как мы тогда злились на это: „Не лепо ли ны бяшеть, братие“. Но против школьной программы не попрешь. Даже, ведь, сочинения писали. Девчонки все больше про „Плач Ярославны“, а мы — про „червленые щиты, перегородившие степь“.
И вот что интересно — конец XII (или начало XIII?) века, а во всем произведении, если не ошибаюсь, ни разу не упомянуты: ни Иисус Христос, ни Богородица, ни иные библейские персонажи. Зато языческих образов пруд пруди: Стрибог, Хорс, Дева-обида, Карна и Желя — вестницы смерти. Баяна автор называет Велесовым внуком.
Да и сам „плач Ярославны“, по сути, настоящая языческая молитва. К кому она обращается? К ветру, к Днепру, к солнцу, но отнюдь не к Христу, не к Деве Марии, не к кому-нибудь из христианских святых. И это — православная княгиня?