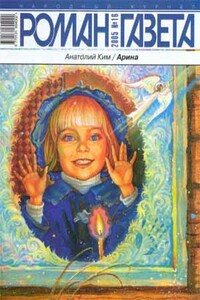Отец-лес | страница 93
Итак, его решение жить, существовать без благоговейного учёта Отца своего, жить и существовать в сосредоточенности своего непреходящего страдания, воспринимая саму эту незаконность мучений за единственный закон своего существования, — это суровое решение одного из деревьев моего Леса стало для меня весьма поучительным фактом. Я вдруг увидел, что выход из того некрасивого положения, в котором я пребывал, всё же имеется, и он подсказан был мне Глебом Тураевым — выход в том, чтобы мне стать своим творением. То есть — это всё равно что Богу стать человеком; Отцу-лесу стать деревом; Пигмалиону стать своей статуей. То есть я умалялся в миллиарды раз, почти уничтожался в этой малости — но именно она, она, эта малость, давала спасительный выход для моей холодной, бесконечной скуки высшего совершенства. Я мог, как и все мои творения, умереть.
Но, будучи таким, какой я есть, присутствуя во всех мгновениях того, что существует и чего нет, я не мог обрести подлинного конца, перестать существовать не мнимо, исчезнуть в веществе окончательно и разлететься во всех направлениях мирового пространства. Для этого мне надо было стать одним из людей, выбрать кого-нибудь конкретно. Однако выступило тут одно непредвиденное обстоятельство — оказывается, чтобы мне превратиться в конкретного человека, требовалось и его согласие поменяться со мною ролями — то есть обретение мною конечности и смертности должно было быть обеспечено взятием им на себя бесконечного существования и достижения неопределённой, неизмеримой и великой кармы телесности.
Но Глеб Тураев не хотел ничего знать о блаженной вечности и существовании без начала и конца. В обязанности лагерного контролёра входило вместе с дежурным надзирателем и начальниками конвоев считать снаряжённых к работам заключённых, выпуская их по пятёркам из ворот вахты на широкий плац, где конвойные с автоматами на груди уже заняли свои надлежащие места по периметру охранных зон. «Первая… вторая… десятая… двадцать седьмая!» — считал надзиратель Носков в крик, и с каждым счётом пятеро передних в колонне поспешно и дружно, стараясь держать равнение, выступали вперёд, проходили под задранным шлагбаумом и с видимым удовольствием выбирались из территории жилой зоны на вольное заворотнее пространство.
Бледные и сероватые после проведённой в душных бараках ночи, лица заключённых были напряжёнными, некоторые были воодушевлены тем весельем, которое не для себя, а напоказ и ищет внимания окружающей толпы, как бы желая в её пробуждённом внимании найти то необходимое тепло душ, без которого холодно и гадко всякому человеку в толкучке других людей. Так, один из них, длинный, усатый, с плоским животом, со вздёрнутыми плечами, побежал в пятёрке какой-то дурашливой побежкой, не сгибая ног в коленях, широко, хером, расставив эти ноги и загребая ботинками пыль, — за это был несильно бит кулаком по спине считающим надзирателем, которому недосуг было выговаривать или окрикивать — язык был занят произнесением счёта. Другой предстал перед взором всех (когда предыдущая пятёрка прошмыгнула под шлагбаумом) в шутовском наряде, сшитом из двух половин старых ватных штанов разного цвета: чёрных и зелёных, — с явной целью посмешить народ, а не потому, что иного выхода не было. Но этому веселящемуся повезло меньше — надзиратель притормозил счёт, записал число на бумажке, а затем, ни слова не говоря, схватил этого, в шутовском наряде, за шиворот одной рукою и пониже другою, выдернул из строя и с силою отшвырнул назад в зону. Глеб Тураев видел, каким стал испуганным вид у недавнего весельчака, и подумал: достанется ему, бедняге, этот Носков посадит шута горохового в штрафной изолятор.