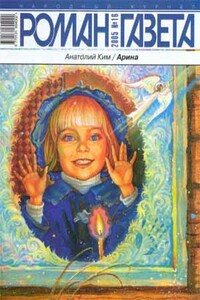Отец-лес | страница 92
Деловито возжигали крошечные костерки на засортирном пустырьке владельцы ценного имущества — чая, и на двух кирпичиках, в почерневшей консервной баночке каждый счастливец варил для собственного употребления густой, как дёготь, «чифир». Мне вовсе не доставляет удовольствия созерцать этих несчастных, варящих и затем пьющих своё вожделённое горькое пойло, не глядя друг на друга, я хотел бы пробудить свою память на чём-нибудь другом, нежели утро нового дня возле лагерного сортира, у выгребного рундука с прыгающими в нём крысами, рядом с которыми копошатся в тухлой массе отбросов две какие-то серые фигуры в телогрейках, в косо напяленных шапках — как два гигантских насекомых неизвестного вида. Я предпочёл бы никогда не знать подобного, уродливого и ошибочного в моих творческих содеяниях, тем более что я уже давно всё подобное предал уничтожению и только в моей болезненной памяти существует сие, — и не подводил бы я эту бедную память к краю вонючей сортирной ямы — зачем? зачем? — но именно в это утро отформовалась в мысль и слово та решимость Глеба Тураева, которая стала основой его преображения.
Он, участвуя в то утро в мучительных действиях людей для осуществления мучительных и мучительских предписаний относительно того, как организованнее и результативнее одним мучить других — и это для достижения существующей якобы разумной цели для всех, — в то утро Глеб вдруг ясно осознал, что сия благая и прекрасная цель отсутствует.
Если разумное начало, такое могущественное в творчестве, столь бесцеремонно обходится с людьми и обрекает их на уничтожающий позор, то оно теряет на нас всякие права. Творца прекрасного мира несчастная тварь этого мира может потребовать оставить её в покое. И безнравственно было бы Ему не отпустить того, кто просит не мучить его душу, столь идентичную душе самого творца. Решение существовать _в разводе_ со мной — вот что меня поразило! Когда Иисус в Гефсиманском саду представил себе всю меру человеческого позора, ожидающего его, то он не мог уже отказаться пройти через него. И солдат Глеб Тураев почувствовал, что для него нет иного пути, как только пройти через последний хрип агонии — и к чему прийти?
А до этого хрипа промелькнёт что-то такое яркое и пёстрое и настолько мгновенное, что даже и не успеешь разобрать — что? И только издирающие страдания дадут какое-то ощущение пространности переживаемой яви. Но что бы там ни было — лишь позор существования и последняя грязь смерти обеспечивали возможность прихода той свободы, которая обещана моему творению. В этом мы уравниваемся. Я ОДИНОЧЕСТВО — вот название той автономной области, куда может уйти претерпевшая всё, что ей положено было претерпеть, душа человека из мира, сотворённого мною.