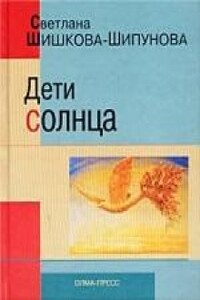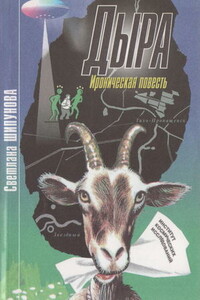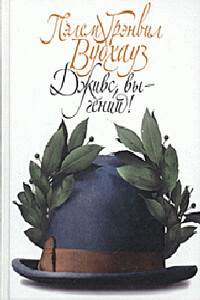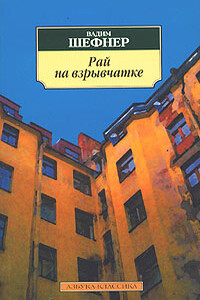Дураки и умники. Газетный роман | страница 59
Зудин принес портвейн и сообщил, что траурные флаги уже висят — на входе в издательство, на «Интуристе» и на цирке.
— Вот и хорошо, — сказал Сева. — Давайте за это и выпьем.
— Да ну, еще пить за это! — возразила Ася.
— А за что?
— Давайте наш — за сбычу мечт!
Это был их фирменный тост, придуманный лично Асей, которая в последнее время вкладывала в него совершенно определенный смысл. Ася мечтала обменять свою однокомнатную на Москву и устроиться в какую-нибудь из центральных газет. Она даже съездила за свой счет в столицу и оставила объявление об обмене в Банном переулке, но, потолкавшись там и поговорив со знающими людьми, поняла, что дело почти безнадежное. Благополученск на Москву меняли плохо.
— На черта тебе Москва? — говорил Валера Бугаев. — Кому мы там нужны? Там журналистов, как собак нерезаных.
— Думаешь, мне хочется уезжать?
— Ну и не уезжай.
— И что тут делать? Сидеть до сорока лет в «Комсомольце», а потом идти на поклон к Правдюку? Была бы хоть «вечерка» — другое дело.
Но вечерней газеты в Благополученске не было. По переписи 1979 года в городе проживало семьсот с чем-то тысяч человек, а для открытия вечерней газеты по установленному кем-то когда-то правилу требовался миллион. Так что у журналистов молодежки был только один путь — в «Советский Юг», но они старались держаться кто сколько мог, до последнего, пока уже не начинали им говорить открытым текстом, что пора.
— Я тоже хочу в Москву, — мечтательно сказала Майя. — Или в Ленинград. Я так люблю Ленинград! Если бы у меня было что менять… (Майя, как многие молодые сотрудники редакции, жила в общежитии издательства).
Выпили и помолчали.
Жора с Севой разглядывали свои стаканы на свет.
— Портвейн хороший.
— Вчера тоже ничего был…
Любимый напиток сотрудников «Южного комсомольца» давно заслужил, чтобы о нем сложили оду — что-нибудь вроде «Похвального слова портвейну», и даже странно, что никто этого до сих пор не сделал. Он был дешев и доступен, горячил и веселил кровь и, как утверждали некоторые, служил лучшим средством для поднятия творческого тонуса, поэтому его пили везде — в командировках, на дежурстве, на природе, куда ежегодно выезжали в День печати 5 мая и в День рождения комсомола, 29 октября, если, конечно, была погода. Но были в городе два заветных местечка, облюбованных для этого дела еще предыдущими поколениями журналистов, куда можно было заявиться в любой день, не дожидаясь праздников.
Если выйти из Газетного дома, повернуть за угол и пройти один квартал, оказываешься на центральной улице города, носящей название Историческая. В пяти минутах ходьбы там стоит кафе-стекляшка «Эхо». На веранде этого «Эха» сиживали в жаркие летние дни целые отделы «Южного комсомольца», а то, бывало, и вся редколлегия в полном составе. А поскольку по Исторической проходили в это время многие знакомые личности, их непременно окликали и зазывали за шаткий пластмассовый столик, умудряясь поместится за ним чуть не вдесятером. Однажды в такой вот теплый, тихий, не располагающий к работе день здесь сидела обычная компания — Ася, Сева, Майя и Жора Иванов. Попивая портвейн из граненых стаканов, компания обсуждала только что появившийся в печати «Алмазный мой венец». Восхищались манерой письма — совершенно непривычной, названной самим автором странным словечком «мовизм», и увлеченно разгадывали: кто такой Птицелов, кто — Щелкунчик, кто — Будетлянин. Мимо шел Мусин-Пешков, его позвали, усадили и сразу набросились: «Ты прочитал? Ну как тебе? А ты всех разгадал?» Не надо было даже объяснять, о каком произведении идет речь, на данный момент это была единственная стоящая внимания новинка литературы, и о ней говорили все. Мусин был большой эрудит, а тут еще обронил как бы невзначай, что лично знаком с Катаевым, так что разговоров хватило еще на час. И вдруг из-за густого кустарника, опоясывающего веранду кафе, показалась лохматая голова Вали Собашникова.