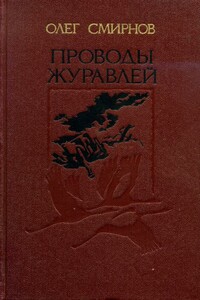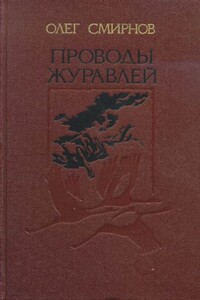Обещание жить | страница 120
Мир, не исключено, и сумеет обойтись, а он, Макеев, не сумеет. Они ушли, он остался. Будто топчется на месте, а они уходят — такое ощущение. Хотя в действительности все наоборот: они лежат, он бредет в походной колонне. А может, не все погибли из тех, кого нет в колонне? Не видел же он своими глазами, как гибли многие. Может, ранены, эвакуированы? Пусть ранены, пусть без рук, без ног, лишь бы живые!
Так думал Макеев, не допуская мысли, что те могут не захотеть жить без рук, без ног, могут предпочесть умереть, чем жить калеками. И еще он подумал: «Теперь я буду живой, раз выбрался из этакого пекла. Но как буду жить без однополчан, сложивших сегодня голову?»
Ночь слепила, сек дождь, хлюпала грязь. Смыкались веки, подгибались колени, в голове гудело, в горле саднило. И в сердце саднило. Макеев потирал грудь, словно боль можно было стереть этими прикосновениями. На ходу вздремывали, а когда объявлялся привал, валились на мокрую траву под кустами, под деревьями. И командирам приходилось расталкивать уснувших, когда объявлялось: «Встать!»
Всю ночь кружили по лесу, и лес будто кружился вместе с ними. А возможно, это просто голова кружилась у Макеева. Он чувствовал себя все хуже: в висках и затылке кололо, кололо и в сердце, в горле — как клещами рвут, слабость пошатывала, оступившись в размоине, подвернул ногу и теперь приволакивал ее, исподнее намокло от пота, не исключено, однако, что и от дождя: промок до нитки. Телу холодно, знобко, зубы выбивают чечетку. И слабость чаще накатывает волнами, качает сильней и сильней.
Телу знобче, а душа горела. Где-то там внутри, в груди, в сердце ли, разгорался огонь, жег, но от него рождалось не тепло — холод рождался. Печет холодный огонь, который может заморозить, заледенить. Глоток бы спиртного, чтобы загасить этот огонь внутри, в груди. Спиртом загасить огонь? И хватит ли глотка? Тут фляга нужна, хотя огонь и холодный. А, все это вздор, бред, муть собачья. Завалиться б на привале, укрыться с головой, уснуть, не помнить ничего.
Но когда возможность представилась — со сном не вышло. За полночь остановились на ночлег. Нагребли палых листьев, хвои, повалились. Макеев тоже упал, не чувствуя тела. Укутал голову шинелью, надышал тепла — и сонливость как рукой сняло. Непонятно почему, но никак не засыпалось. Вздор, муть собачья, спать да спать, а он ворочается, мается. Ведь устал же, измотан до чертиков, заснуть бы малость, ведь поднимут же перед рассветом. А он ворочается. Благо б думал о чем, так нет же — в башке ни единой мысли. Пустота, тупость, тоска.