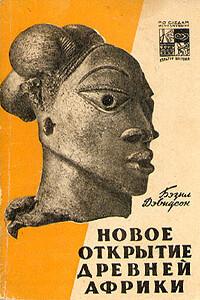Операция «Андраши» | страница 98
— Это не имело бы значения, даже будь все так, как ты говоришь. Сейчас для нас важно только то, что мы должны сделать, то, что мы будем делать.
— Ну нет, для меня это имеет значение.
Митя ответил не сразу, и их вновь разделила враждебная пауза. А когда он опять заговорил, голос его стал другим. Гнев исчез.
— Есть ли смысл в разговорах? — Он сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух между растрескавшимися губами. — За это время я выучил один урок. Может быть… да, пожалуй, и тебе его придется выучить. — Митя перевернулся на спину, сел по-турецки, вскинул руки и тут же их опустил. Потом сказал резко: — Тебе придется научиться вот чему: простить себе, понимаешь? Никто другой за тебя этого не сделает. Вот что я понял. Это ты должен сделать сам. Иначе ты не сможешь жить.
Он в бешенстве смотрел на Митю, стараясь угадать, что Митя от него утаивает. Но Митя смотрел куда-то мимо — серьезно, спокойно, открыто.
— Ну так я тебе объясню. Да-да, теперь ты меня послушай. По-твоему, я не понимаю, что ты, собственно, мне говорил?
Он уловил иронию в неторопливой Митиной улыбке и с бесповоротной уверенностью почувствовал, что вот таким он будет помнить этого человека в грядущие годы — если у них будут эти годы (будут, черт подери, теперь они обязательно будут!). Землисто-серое лицо Мити было совсем старым — из-за постоянного напряжения, из-за голода, из-за рубцов прошедших лет. Его тело в грязной одежде было медлительным и неуклюжим, лицо с носом картошкой, с широким щербатым ртом — почти безобразным. И тем не менее от него исходило ощущение редкой гармоничности и даже мягкой доброты. Митя не был сломлен, он не был побежден.
— Когда нас спросят потом… после всего… как это было на самом деле, что произошло, что было правильным, а что неверным, нам будет трудно отвечать. Да-да, я тебя хорошо понимаю. Вот, например, эти женщины… — Он осекся, протянул было руку, опустил ее. — Жители Нешковаца… — начал он снова. — Спрашиваешь себя, как ты можешь жить, когда они погибли. И погибли из-за нас с тобой… из-за всего этого. — Митя заставлял себя говорить, словно выжимая кровь из тайной раны.
— Это ведь фатализм? — пробормотал он. — Загадочная русская душа…
— А, слова, и ничего больше! — ответил Митя. — Вот послушай. Послушай, что было со мной, и тогда суди. Суди, как хочешь.
Он уперся локтями в колени и наклонился вперед.
— Я родился в Сибири. В тринадцатом году, за четыре года до революции. — Из его ладони струйкой сыпались сосновые иглы. — Отец воевал в первую мировую и не вернулся. Матери пришлось очень тяжело. Она делала что могла, только этого было мало. Я не знаю, что с ней случилось. Только я остался совсем один. Таких детей тогда были тысячи. Слабые умирали. И я, наверное, умер бы, но меня взял к себе дядя… — Митя глубоко вздохнул и зажмурился, потому что выглянуло солнце и серая вода нестерпимо засверкала. — Шла гражданская война. Я был совсем малышом и мало что помню. Но я помню голод и еще помню колчаковских казаков, которых расквартировали на нашей улице. Тетка и двоюродная сестренка умерли с голоду, а потом постарались и беляки. Они забрали дядю, но он убежал и вернулся в дом, где ждали мы с Сашей. Это я помню. Мы прятались с Сашей в доме много дней и боялись выглянуть на улицу. Да что я говорю — дом! Сараишко, перегороженный пополам. Из дома они нас выкинули, сказали, что он слишком хорош для большевистского отродья. А ведь они тоже были русские. Нет, я не жалуюсь. И не собираюсь рассказывать трогательных историй. Мы с Сашей не умерли. Мы выжили. — Он посмотрел на Тома и улыбнулся своей неторопливой улыбкой. — Мы выжили, слышишь?