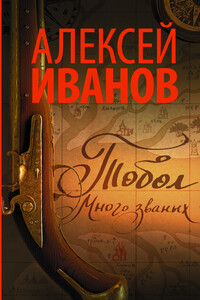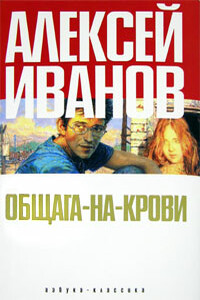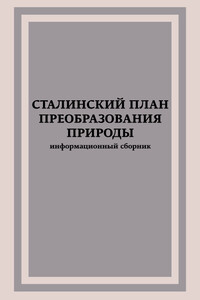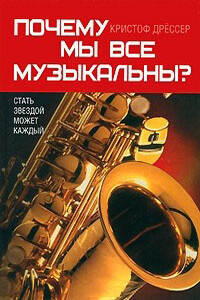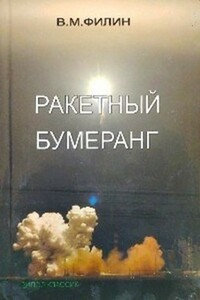Уральская матрица | страница 52
Ресурсом, вокруг которого начала «окукливаться» уральская «горнозаводская держава», разумеется, были горные заводы Урала. Монаршей милостью стала Берг-привилегия. «Невидимыми нитками» — личное знакомство горных командиров с Петром. Причём эти «нитки» натягивались с обеих сторон: Петру нужны были пушки, а горным командирам нужна была независимость, иначе вороватые чиновники сожрут их заводы со всеми железками. «Уральская матрица» форматировала жизнь и работала не на какой-то там «самобытности», а на здравом смысле, на трезвой логике, на жёстком расчёте.
И заводы принялись «плодиться и размножаться». В 1722 году Демидовы основали Нижне-Тагильский завод и перенесли в Тагил своё «родовое гнездо». В том же году и Строгановы основали свой первый завод — Таманский на Каме. «Горнозаводская держава» легла на Уральский хребет как седло на лошадь — на обе стороны. Увернуться от горного дела Строгановы не смогли. Пётр объявил госмонополию на скупку соли, и строгановские варницы начали оглядываться на окрики бергамта. «Держава» властно присоединяла к себе новую отрасль производства: к заводам, рудникам и пристаням приплюсовала солеварни.
Этапным стал 1723 год. Почти одновременно вошли в строй Егошихинский и Екатеринбургский заводы: будущая губернская столица Урала и вновь учреждённая горная. Так из общего корня рождалась уральская «двоичность», «зеркальность». Де Геннин перенёс из Уктуса в Екатеринбургский завод Обер-бергамт (в состав которого вошли Пермский, Казанский, а потом и Оренбургский бергамты). Так кристаллизовалась государственная структура «горнозаводской державы». Заводами руководил горный командир и Екатеринбургский Обер-бергамт, а не губернаторы в Казани или Тобольске (Оренбурге или Уфе). И не важно, что стояли заводы во владениях губернаторов. Де Геннин обозначил пределы «горнозаводской державы»: четыре казённых завода (Екатеринбургский, Уктусский, Алапаевский и Каменский), 18 приписных слобод и две пристани. Потом границы «державы», конечно, раздвинулись.
Время Берг-привилегии «активировало» и другие черты «уральской матрицы». В первую очередь — милитаризацию. Заводы изготовляли пушки и пушками отчитывались не перед Берг-коллегией, а перед Военной коллегией. Горными командирами назначались люди служивые: капитан Татищев и генерал де Геннин. Уральская неволя всё отчётливее определялась как «неволя под ружьём». Точнее, не как «неволя под угрозой оружия», а как «неволя армейской службы». «Конституцией» горнозаводского государства стал Горный Устав.