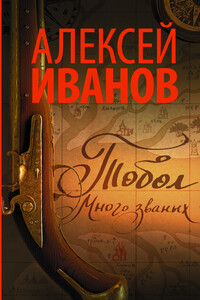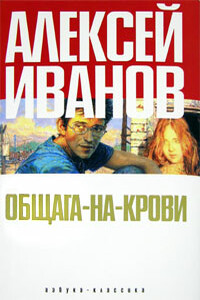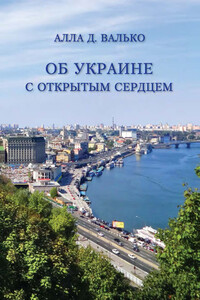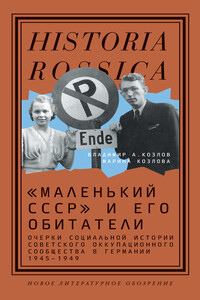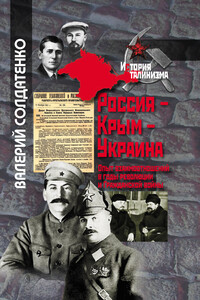Уральская матрица | страница 33
НЕВОЛЯ ПОД РУЖЬЕМ
На Урале Ермак — демиург, творец мира. Ермак — «это наше всё», потому что он собрал в себе все смыслы и дал образ всех ответов на все вопросы. Завоеватель он или освободитель? Разбойник или герой? Наконец, он принёс волю или принёс неволю? Масштаб личности Ермака ещё и в том, что Ермак не был жертвой, хотя и лёг на алтарь под нож. Ермак сам принял все решения не только за тех, кто был до него, но и за тех, кто придёт после.
У гуманитариев есть размытая формулировка: «невозможно точно сказать…» Ермак опровергает и её. Сказать точно — возможно, потому что образ Ермака ясен, как день. «Уральская матрица» не терпит вопросов без ответов. Вопрос о свободе, ключевой для европейской культуры, для русского героя Ермака не особенно значим: это вопрос «технический». Свобода — это всего лишь поиск алтаря. А Урал и сам стоит посреди державы, будто алтарь. Только на этот алтарь нельзя валить человека неволей.
Урал смешал волю и неволю воедино, как металлы в сплаве. Рождённый волей Строгановых и Демидовых, русский Урал возведён на неволе своих мастеров, вбитых в землю, как сваи. Но ведь рядом свободная Сибирь, где можно укрыться от любого угнетателя. Однако уральцы оставались при заводах. Значит, выбор неволи — это выбор вольный. Значит, свобода — это ценность, а Урал — сверхценность.
Для тех, кто в «матрице», крепостное состояние — социальная неволя — было только одним из условий жизни. Неплохо было бы изменить это условие, но такое желание не превращалось в точку приложения всех сил. В пределах действия «матрицы» — то есть, на географическом Урале, — крепостной человек был достаточно свободен, а вне этих пределов он себя и видеть не желал.
Заводские мастера наследовали заводскую работу от отцов, дедов, прадедов. Конечно, объективно эта работа была принуждением, неволей. Но субъективно она выглядела естественной и органичной, как рост или цвет глаз. Или даже как вера. От такого наследства невозможно было отказаться, да кроме него ничего и не было.
Обретение «воли» порой оборачивалось трагедией. Вольному работнику заводчик должен был платить больше, чем крепостному, а потому вольных часто изгоняли с заводов. Мастер оказывался отлучён от дела. И он шёл обратно в кабалу уже без принуждения. «Выход на волю» на Урале для мастеров был чем-то вроде символа своей состоятельности, вроде яхты у миллионера — но никак не целью, ведь и миллионер не собирается становиться капитаном дальнего плавания.