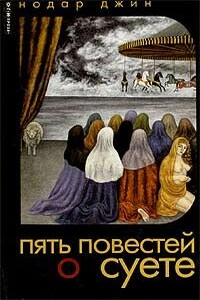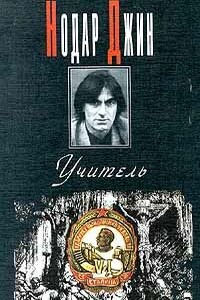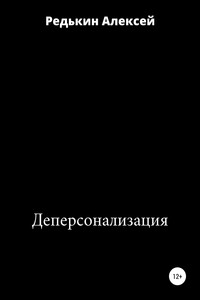Повесть о вере и суете | страница 45
Ещё доступнее выразилась тогда Ванда. Вытянув из кармана под грудью отсыревшую на сгибах бумагу и всучив её мне, она сказала, что пока на свете живут наши растерянные соплеменники, которых некому защитить от «крыс», всем нам остаётся только «рвать и метать».
Стыдно мне было и от того, что — перед неотвратимостью беды моих соплеменников — растерянным и беспомощным казался себе я сам.
И вот из-за всего этого — желания любить кроме этих стариков всех на свете людей, но невозможности это сделать, желания сострадать каждому человеку в его горе, но полной же невозможности это сделать, желания отвратить беду от стариков и вообще от всех, но неумения упастись даже от собственной, желания быть не евреем, а просто человеком, но невозможности сделать и это, желания всегда и искренне, подобно грозненским старикам, верить в существование смысла, но полной невозможности это сделать, желания знать наверняка, что в существование смысла искренне и всегда верят хотя бы те же старики, но невозможности знать даже это — из-за всего этого и другого, совсем уже описанию не поддающегося, из-за всего, что сплелось воедино в этом моём редком душевном настрое, мне захотелось вдруг громко взвыть. И выть бесконечно, до тех пор, пока оглушённый этим воем мир вокруг не образумится и не станет справедливым.
Причём, мне доставляло боль даже само это желание, поскольку было мучительно сознавать моё полное недомыслие относительно того каким же именно этот мир должен быть чтобы быть справедливым. Я сознавал лишь то, что, если всё может быть хоть чуточку лучше, всё должно быть совсем иначе.
Не совладав с этим яростным хотением взвыть, я, тем не менее, сделал это беззвучно. То был даже не вой, а звон. Как если бы в ухо мне угодила цикада и ошалела от неумения вырваться из черепа.
Когда звон в голове и этот настрой из спутавшихся переживаний внезапно исчезли, как обрывается верещание цикады, — изо всего промелькнувшего в моей душе пока я стоял в прихожей с письмом в руках, пока работал в этом заведении, пока жил в этой стране и вообще на свете, — изо всего этого остался сейчас лишь одинокий, глупый и потерянный, как булыжник в песках, груз: моя неотступная жалоба.
А трещание цикады оборвала Ванда:
— Идут! — крикнула она и вырвала из моих рук письмо.
25. Don‘t worry, be happy!
Пришли они, как всегда, вместе. Смеялись, но, завидев меня, осеклись и скривили лица. Марк Помар — в гримасе утомлённого мыслителя, а Герд фон Деминг — жизнерадостного недоумка.