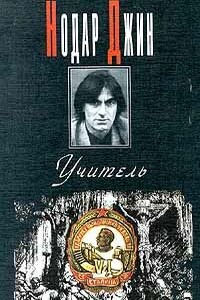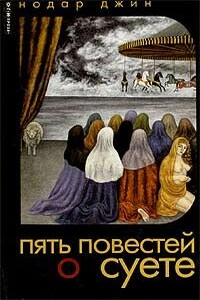Повесть о вере и суете | страница 23
Только душа не позволяет рассекать время, и потому только в ней не пропадает ни одно из мгновений. Каждое новое сливается с прошедшим и с будущим. Потому и только душа никогда ни над чем не издевается — и всё на свете, всё пространство и всё время, она роднит в сплошной, нерасчленяемой на части любви.
Отделившись от камеры, я закрыл глаза — и в душе моей стал проступать сквозь мрак знакомый мне с детства мир, очарованный гулом молитвенных завываний. Глубоко внутри завязалось желание ощутить связь не только между мгновениями, скопившимися в моей душе за всю жизнь, но также между этими мгновениями и временем, со мной не связанным.
Эта тоска была мне не вновь, и я затаился в ожидании знакомого удушья — когда уже не вздохнуть без всплеска того жизнетворного страха за себя, из которого возникает молитва.
13. Энергия самоотрицания
Молиться я начал в детстве. Но если наступление зрелости совпадает с возрождением ребяческих страхов, я созрел не раньше, чем поселился в Америке. Эти страхи возродились с наступлением поры поражений, в которую меня заманил рассудок, научившийся издеваться надо всем и отшатнувшийся наконец от меня самого.
Энергия самоотрицания обрела во мне такую силу, что у меня появилось желание родиться обратно и жить оттуда.
Вместо этого я угодил с инфарктом в больницу, где больше всего обескуражило меня коварство того же рассудка. Если раньше он кокетливо твердил, будто смерть — лишь смена окружения, то теперь вдруг признался, что живым из наличного окружения в потустороннее мне не выбраться.
Я запаниковал.
Вместо восторга по поводу приближения нового мира меня захлестнуло солёной волной ностальгии — горького понимания, что покидаемый мир, если исключить из него людей, не так уж и плох, как казался. Я решил не принимать снотворного. Из недоверия не столько к злым сёстрам милосердия, сколько к потустороннему миру. Где мне, скорее всего, и предстояло проснуться.
Я провалялся всю ночь в темноте с открытыми глазами и, превозмогая резь в грудине, прикрывался от боли картинками из своей жизни, словно решил отобрать из них те, которые стоило провести контрабандой через таможню смерти. Выяснилось, что, хотя, подобно молитвам, жизнь состоит из сплошных глупостей, прихватить следовало все!
Вспомнился, например, невозможно синий свет — когда впервые в жизни я увидел море. Оправившись тогда от шока, я понял, что никогда бы не догадался о способности синего цвета быть другим. Невозможно синим. Цветом без названия. Мне казалось до этого, будто всему зримому есть название, ибо глаза способны видеть только то, о чём может поведать язык. Вспомнился и вопрос, который я задал себе тогда: Для чего синему цвету быть синее себя?