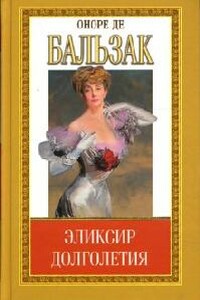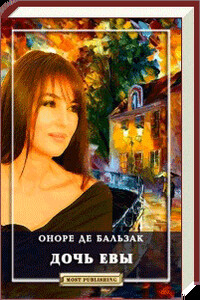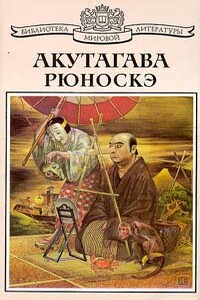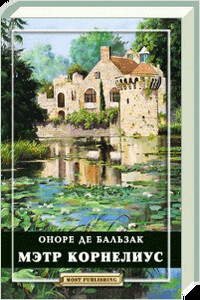Неведомый шедевр | страница 4
— Но эта святая восхитительна, сударь! — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. — В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.
— Это ваш юнец? — спросил Порбус старика.
— Увы, учитель, простите меня за дерзость, — ответил новичок, краснея. — Я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.
— За работу! — сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.
Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.
— Ого!.. — воскликнул старик. — Ваше имя?
Юноша подписал под рисунком: «Николá Пуссен».[5]
— Недурно для начинающего, — сказал странный, так безумно рассуждавший старик. — Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь — великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, Порбус.