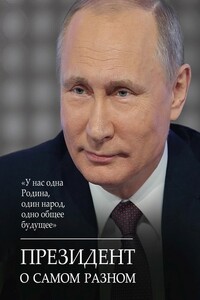Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги | страница 109
— У меня очень неподвижное лицо — был порез,[1] но у меня еще есть предрассудок — мне кажется, что я естественный человек.
— Вы умираете, предположим, Вас сбила машина и Вы умираете в полном сознании. Какие чувства Вами овладеют? О чем будете думать, сожалеть. О лучших строчках, которые не успеете записать?
— Нет, мои друзья хорошо ответили на это. Может быть, мне было бы стыдно за прожитое, но я не хотел стыдиться бы в последнее мгновенье. Умереть с достоинством. И есть такой псалом — не псалом, — спиричуэлз, где негритянский голос поет: «Господи, господи, я не готов, возьми меня, когда я буду готов». Человек и живет так, чтобы подготовить себя к этому моменту без позора. Есть такие точки, когда охватывает чудовищный стыд, что не дай бог начинать умирать в этот момент а ты в этот момент по уши в жалкости, в низости, в ущербе, в позоре. Но и в этот момент, я думаю, Бог протянет руку и ты почувствуешь свою жизнь не такой пустой. Но в принципе, в любой момент надо быть готовым.
— Толстой в последние годы своей жизни плакал, встречаясь с людьми — от радости, умиления. Есть в Вас что-то похожее — когда глядите на человека — возвышенно настроенно, что-то похожее на слезы, слезливость?
— Я часто плачу. Кстати думаю, ничего хорошего в этом нет, потому что это последствия операции и не полный порядок… Я не хотел бы рыдать, как Горький… Но, как только я полностью приближу к себе ситуацию, я нахожусь в состоянии, близком к плачу. Пока я держу Вас на дистанции, Вы говорите: «Будьте собой»; нет, конечно, я на поводке Вас держу, но если позволю, то я зарыдаю просто, хотите, прямо сейчас?
— Фиг Вам. Как Руслан правильно сказал, глядя на людей — можно грустить, тоску испытывать, плакать необязательно. Вот я в Америке сижу в каком-то вроде дома творчества, пытаюсь сочинять, достаю книгу с полки. Начинаю читать в каком-то месте. Про Цветаеву, книга по-английски. Я не такой уж обожатель этого поэта, хотя знаю, что она гениальна, и вдруг меня начинают душить слезы… Ведь такой судьбы, как я вдруг понял — нельзя… Или же там же по американскому телевидению впервые исполняется церковная музыка Рахманинова, попутно дают информацию — кто такой был Рахманинов, мелькают мезонины, платья, какие-то фотографии, усадьбы — и опять вот такое — как же можно было, как же можно… И если сколько-нибудь представить себе хоть какую-нибудь судьбу человека, выстоявшего… Конечно, будешь плакать — Толстой прав…