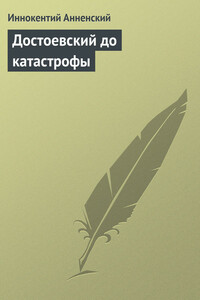Бальмонт-лирик | страница 20
(Тл. 145).
озлобленность:
(II. 223)
Есть у Бальмонта две звуко-символические пьесы.
В шуме ш-с.
Осень
(II. 36)
В сонорности л.
Влага
(II, 189)
Вот несколько примеров перепевности:
(II, 283)
(II, 107)
(II, 132)
(Тл. 207)
Бальмонт любит в синтаксисе отрывистую речь, как вообще в поэзии он любит переплески и измены.
(II. 57)
Или:
(II. 9)
Возьмите еще «Русалку», сплошь написанную короткими предложениями (II, 286), или во II томе пьесы на с. 32, 51, 151, 152.[118]
Выделенью коротких предложении соответствует у Бальмонта красивое выделение односложных слов в арсисе (пьесы: «Придорожные травы», «Отчего мне так душно?» — час, миг, шаг).
У Бальмонта довольно часты во фразе строения слов или речений с разными оттенками:
С радостным:
(II. 264)
Меланхолическим:
(из пьесы «Безглагольность», см. выше)
Мрачным:
(II. 281)
Ритмы Бальмонта заслуживали бы особого исследования. Я ограничусь несколькими замечаниями.
Наши учебники, а вслед за ними и журналисты, говоря о русском стихе, никак не выберутся из путаницы ямбов и хореев, которые в действительности, кроме окончания строки, встречаются в наших стихотворных строках очень редко. Например, почти весь «Евгений Онегин» написан 4-м пэоном.
Бальмонт едва ли не первый показал силу первого пэона, как основного ритма пьесы, который дал возможность утилизировать сочетания четырехсложных слов с ударением на первом слоге.