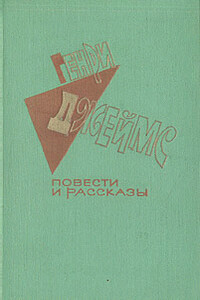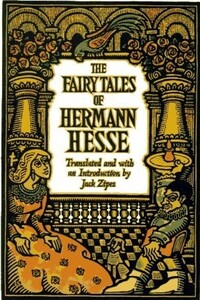Вашингтонская площадь | страница 20
Итак, Кэтрин принимала мистера Таунзенда с глазу на глаз; тетка ее не вышла даже к концу визита. Визит был продолжительный: мистер Таунзенд просидел в гостиной, в самом большом кресле, дольше часу. Казалось, на этот раз он чувствовал себя непринужденнее, держался не так строго откидывался на спинку кресла, похлопывал тросточкой по подушке, лежавшей подле него, не стесняясь оглядывал убранство комнаты, а также и Кэтрин; на ней, впрочем, взгляд его останавливался надолго. В его красивых глазах светилась улыбка почтительного обожания, которая казалась Кэтрин прекрасной к, может быть, даже величественной; она напоминала Кэтрин о юном рыцаре из какой-то поэмы. Речь его, однако, вовсе не была рыцарской; он говорил легко, непринужденно, приветливо; интересовался практическими материями, расспрашивал Кэтрин, какие у нее вкусы, какие у нее привычки, любит ли она то, любит ли это. "Расскажите мне о себе, — сказал он со своей покоряющей улыбкой, — нарисуйте нечто вроде устного автопортрета". Рассказывать Кэтрин было почти нечего, да и к рисованию она не имела таланта; но прежде чем Морис Таунзенд ушел, она открылась ему в тайной страсти к театру — страсти, утолять которую доводилось ей редко, — и в склонности к оперной музыке, особенно к Беллини и Доницетти (вспомним, в оправдание сей примитивной молодой особы и ее мнений, какая то была невежественная эпоха);(*5) музыку эту ей редко доводилось слушать — разве что при помощи шарманки. Она призналась, что не особенно любит литературу. Морис Таунзенд согласился, что книги — вещь довольно утомительная; "но чтоб понять это, — добавил он, — надо прочесть их целую уйму". Он сам бывал в местах, о которых сочиняют книги, и никакого сходства с описаниями не нашел. Увидеть своими глазами — вот это действительно интересно; он старался увидеть все собственными глазами. Он перевидал всех знаменитых актеров, перебывал в лучших театрах Лондона и Парижа. Но актеры ничуть не лучше писателей — они тоже всегда преувеличивают. Он любит, когда все естественно.
— Это мне и нравится в вас; вы так естественны! Простите меня, прибавил он, — я, знаете, и сам привык держаться естественно!
И прежде, чем Кэтрин успела решить, прощает она его или нет (позже, на досуге, она поняла, что прощает), Морис Таунзенд заговорил о музыке, которая, сказал он, составляет величайшее наслаждение в его жизни. В Париже и в Лондоне он слышал всех великих певцов — и Пасту, и Рубини, и Лаблаша;