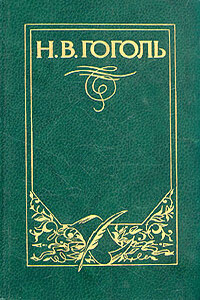Том 3. Повести | страница 15
Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Теля“ и „Историю Тридцатилетней войны“, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Всё это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только „гут морген“, ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем:
„Я не хочу, мне не нужен нос!“ говорил он размахивая руками… „У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русской скверный магазин, потому что немецкой магазин не держит русского табаку, я плачу в русской скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек; это будет рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой, Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек. Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русской скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак! Это разбой, я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?“ Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. „Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!“
И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что, ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.
Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошенное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то, что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностию сказал: „Вы извините меня“…
„Пошел вон!“ отвечал протяжно Шиллер.
Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал: „Мне странно, милостивый государь… вы верно не заметили… я офицер…“