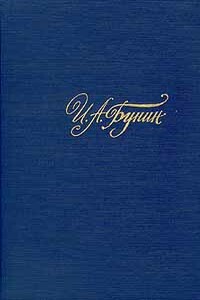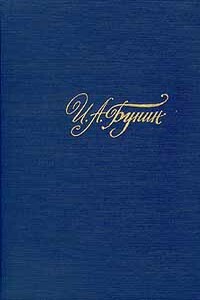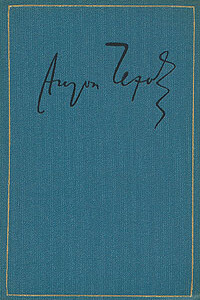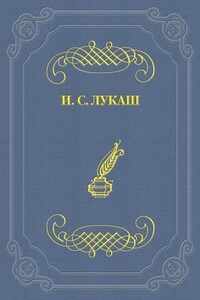Рассказы и повести 1917-1930. Жизнь Арсеньева | страница 12
Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стукая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, ходило мрачное, ледяное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все- таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже неосознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал, — вернее, все собирался что-то обдумать и попять как следует. Стало уже упруго подымать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с. плеском и шумом сходившихся водяных гор, шел, весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделывая «траттататата». Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжко и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем… Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата», — и вдруг опять ударило, и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть… «Началось!» — подумал я с нелепой радостью.
Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, — с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого- нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убегать надо было опрометью, сидеть — упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья… А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть — ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад… Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря… Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжко ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас», Но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг — налетал ураган со снегом, насквозь пронзавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием…