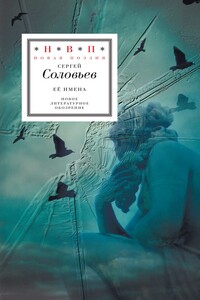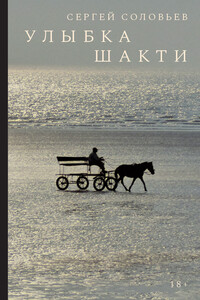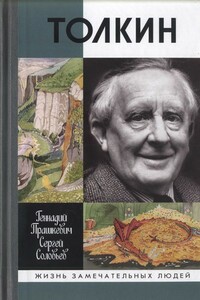Адамов мост | страница 69
Да, да, – говоришь, переворачиваясь на спину, прикрываясь книжкой от солнца. – В этом великом колесе Брахмана блуждает гусь. – Кто? – переспрашиваю. – Гусь. Шваташвара-упанишада.
Дворец пуст, одни мы в нем. Вид на сад, цветы, клумбы, маленький водопад, декоративный, мостки к реке, за ней город, невидим, за ним океан, и так далее, вокруг света, за ним мы, в комнате, у окна, в сад смотрим. Пойдем, говорю, погуляем.
Солнце садится, бредем без дорог, земля голая, сморщенная, как ладонь старухи. Линии, бугорки, тропы. Где мы? В сердце? в уме? в жизни? Солнце течет вдали, как сквозь пальцы. Вниз тропа, в лог, несколько хижин в зарослях. Или заросли в хижинах? Люди все реже.
Вверх, поворот, деревушка. На улице никого. Старуха, беззубая, пол-ладони во рту, обсасывает. Лицо в буквицах, как сгоревшая рукопись, теплый пепел. Хижина, полон рот детей, высунулись, как язык чумазый, – пекли картошку? Девушки, две, прыснули, отпрянули от окна и прильнули тут же. Глаза и косы. Старик вышел, стал, струю провожает взглядом, строг, грозен, запахивается. Идем, поворот, и вдруг: вот оно…
Вот оно, куда мы шли, оказывается. Поднимаем голову и не можем его охватить взглядом, это дерево. Будто глаза гудят, ветвясь, текут в небо. Не запрокинуть голову так, чтоб увидеть его целиком, удержать взглядом. Будто ты мураш, прилипший к его коре, там, далеко внизу, у земли, в ее маленьком круглом мире. А там, в ветвях, не листва – звезды, их шелест, средь бела дня, желтеющего, как бумага. И ящички деревянные покачиваются на веревках, подвязанные к нижним веткам.
Кому кормушки? Богам нижним, дольним. Цветы в них, сласти.
Покачиваются. Ни души. Лестница вверх на холм. Луч, последний, скользнул к нам, не дотянулся, смерклось. Ворота. Входим.
Храм горел. Горело все его тело, кроме головы. Чешуйчатой головы и смоляной шеи. Это было похоже на город в ночи с большой высоты, горящий город, свернутый в виде храма. Нет, потом ты сказала, потом
– когда? – через века, долго падая с той высоты, пока не совпала с ним – взглядом, телом, пока сама не зажглась огнями. Они шли по периметру, опоясывая его с равными интервалами: язычок тьмы, язычок пламени; тысячеязыкий, трепещущий огнем от бурой земли до смоляной шеи. Нет, говоришь, тысячеглазый, видишь, с этими закатившимися зрачками, подрагивающими, будто спит и сны видит. Стоим, глядя, шагу ступить не можем. А он дышит, колеблется всеми веками своими, которых, кажется, больше, чем возраст земли, на которой стоит. Всеми своими снами, всей тьмой языков. Ни для кого. Ни души кругом. Спит.