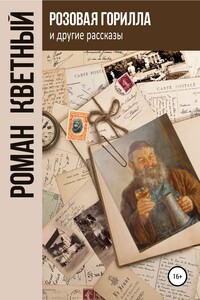Выкрест | страница 68
Как знать? Я легко отрекся от веры, которой, впрочем, не обладал, был сыном России, стал сыном Франции, усвоил, что мне придется мириться со смутной враждою иноплеменников; я понимал, что этой враждой вызвана их готовность ждать света от римского ликторского пучка и от берлинской паучьей свастики. Можно было со вздохом посетовать, можно было и подивиться, но – не обманываться в реальности.
Францию возглавлял Лаваль. Овернская медвежья хватка. Дородный, с загорелым лицом исконного уроженца юга. Тому, как он выглядит, придавал первостепенное значение. Всегда и всюду при белом галстуке.
То был его отличительный знак. Наивная и, однако же, действенная попытка создать персональный образ.
О нем ходило много историй. Однажды он сказал собеседнику: "Знаете, я все-таки отдал Абиссинию Муссолини. В молодости мы оба были социалистами, это роднит". Должно быть, вручая Гитлеру Францию, он снова растроганно умилился: все же арийский социалист.
Не странно ли? В этом холеном теле таилась не заячья душа. Когда уже после конца войны его приговорили к расстрелу, он вышел на казнь в своем белом галстуке и отдал команду солдатам "Огонь!".
Но вряд ли он мог предвидеть исход в коварные тридцатые годы. Они бесповоротно влекли нас к самому страшному кровопусканию, которым запомнится этот век, а мы все надеялись увернуться. И верили, что это возможно.
Однако во мне это десятилетие оставило мету еще больнее, чем то, что последовало за ним. Есть мировые катастрофы и есть наши личные трагедии – вторые не заживают дольше.
В тридцать седьмом моя дочь, моя Лиза, уехала с мужем в Советский
Союз. Она нашла наилучшее время, чтобы вернуться на землю предков.
Мы жили розно, ни ее мать, ни ее отчим, очень успешный и предприимчивый флорентиец, не помешали ей заболеть этой идиотической хворью, косившей западных интеллигентов, – их увлеченностью сталинским раем. Конечно, нацистская угроза в чем-то оправдывала безумцев – была тут и скрытая надежда увидеть некую встречную силу,
– но суть заключалась не только в этом. Весь пафос этой глупой влюбленности носил характер не прагматический – о, нет! – в нем бурлила своя романтика. Самоуверенная буржуазность, в которой пребывала Европа, могла оказаться жизнеопасной для якобинских идеалов. В особенности – для братства и равенства. Почти пуританский лик России внушал надежду на их спасение.
Я объяснил своей мудрой дочери, что вовсе не имею намеренья бросить хотя бы малую тень на чувство к России – больше того, я его вполне разделяю. Но есть драматическое различие между страной и государством. Ибо российское государство не станет ни при каких обстоятельствах слугою создавших его людей. Лишь может позволить им