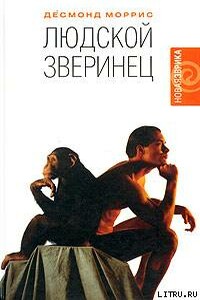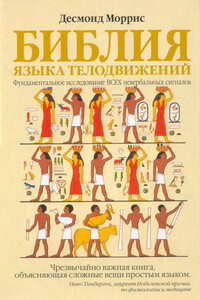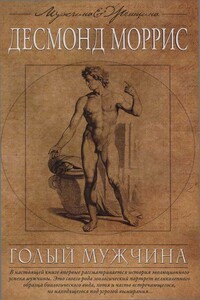Голая обезьяна | страница 118
Поведенческий образец разговора первоначально возник из возросшей необходимости во взаимообмене информацией. Начало ему дало обычное, распространенное среди животных явление бессловесной звуковой сигнализации, выражающей состояние того или иного индивида. Из характерного, дарованного млекопитающим природой репертуара, состоящего из ворчания и попискивания, возникла более сложная система заученных звуковых сигналов. Эти фонемы, их комбинации и сочетания комбинаций стали основой так называемой «передачи информации». В отличие от более примитивных бессловесных сигналов, сообщающих о состоянии данного индивида, этот новый способ общения позволил нашим предкам указывать на предметы окружающей среды, а также на факты в прошлом, будущем и настоящем. По сей день передача информации остается наиболее важной для нашего вида формой звукового общения. Однако, возникнув, форма эта не остановилась в своем развитии. Она приобрела дополнительные функции, одна из которых — «обмен настроением». Строго говоря, это было излишне, поскольку бессловесные сигналы, оповещающие о состоянии того или иного индивида, утрачены не были. Мы до сих пор можем (и делаем это) передавать свои эмоции с помощью первобытных, унаследованных от приматов, криков и возгласов. Но словесными сообщениями о своих чувствах мы эти сигналы усиливаем. Болезненный стон тотчас сопровождается восклицанием: «Больно!» За сердитым рыком следует сообщение: «Как я зол!» Иногда бессловесный сигнал не выражается в чистом виде, а заменяется голосовым сигналом. Вместо слова «больно» мы ноем или вскрикиваем. Вместо фразы «как я зол!» слышится рев или рык. В таких случаях интонация так напоминает древний язык сигналов, используемый млекопитающими, что даже собака может понять значение того или иного звука, не говоря уже о нашем сородиче-иностранце. Сами слова, произносимые при этом, фактически излишни. (Попробуйте прорычать: «Хороший песик» или проворковать: «Плохая собака», и вы поймете, что я имею в виду.) В своей примитивной форме «обмен настроением» представляет собой лишь «выплескивание» словесных сигналов в область общения между индивидами, которая уже нами освоена. Ценность его — в тех дополнительных возможностях, которые он дает для более изысканного и точного оповещения о своем состоянии.
Третья форма вербализации — «разговор-изучение». Это беседа ради беседы, эстетическая беседа или, если угодно, «разговор-игра». Подобно другой форме передачи информации — изготовлению изображений, которое стало использоваться в качестве средства эстетического исследования, то же произошло и с разговором. Поэт возникал рядом с художником. Однако в настоящей главе речь идет о четвертой форме вербализации, которую очень удачно назвали «косметической беседой». Это малозначащая вежливая болтовня о событиях в социальной жизни типа «что за славная нынче погода!» или «какие книги вы прочли в последнее время?» Цель ее — не обмен важными мыслями или информацией. Она не отражает подлинного настроения говорящего, а также не доставляет эстетического удовольствия. Ее цель — усилить впечатление от приветственной улыбки и поддержать чувство общности. Это человеческий заменитель социальной «косметической службы» приматов. Предоставляя нам возможность мирно беседовать, подобное поведение позволяет в течение продолжительного времени общаться друг с другом, таким образом устанавливая и укрепляя важные групповые контакты и привязанности.