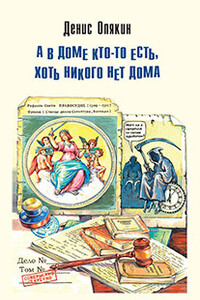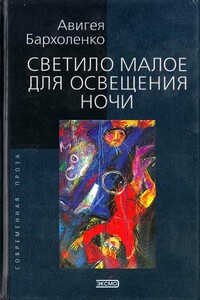Свидания | страница 53
Это была Клеманс.
Я ее сразу узнал. Осанку, профиль. Сумочку. Она была такой же красивой, как в моих воспоминаниях. В точности такой же. Словно я ее туда поместил да и позабыл.
Или нет. Предположим, не забыл. Вот она тут. Но это на случай, если бы я ее еще ждал. А ждать мне ее теперь было незачем.
Я свернул в сторону. Она меня не видела.
О переводчике
Роман, который вы только прочли, - последняя переводческая работа Ирины Радченко. Ее не стало ровно год назад. Это утрата не только для близких, не только для друзей и коллег, это огромная утрата для читающей публики - есть писатели, которых следовало бы переводить только ей.
Берясь за новый перевод, она каждый раз словно шла на риск - долго прислушивалась к тексту, выверяла соответствия - автора себе и себя автору. За «несвоих» авторов не бралась никогда. Она переводила Флобера и Камю, Селина и Сартра, Саган и Жироду. А в последние годы занималась в основном литературой самой современной, сегодняшней, и печатала в «ИЛ» по несколько переводов в год: Мишеля Уэльбека, Виржини Депант, Мари Деплешен, романы Жан-Филиппа Туссена - в том числе знаменитый «Фотоаппарат», - выбирая вещи, порой почти непереводимые. Ей было интересно заниматься лишь той прозой, которая требует тонкой и головоломной работы. И если кто-то думает, что стимулом для перевода может стать заработок, то это верно лишь для километров ширпотребного чтива, а в случае настоящей литературы, которая переводится по двадцать страниц в месяц, не мечты о гонораре толкают переводчика к письменному столу. Толкает желание передать нечто, что существует лишь в языке, в тексте, - и чаще всего при переложении утрачивается. Чем больше этой неуловимой субстанции удастся переводчику сохранить, тем больше шансов у книги выжить в другом языке. И тут с Радченко мало кто мог сравниться. «Свидания» Кристиана Остера - тому пример. Что осталось бы от истории, рассказанной автором - «бесстрастным насмешником», как назвал его один из французских критиков, - если бы не словесные кружева?
Кристиан Остер, действительно, принадлежит к группе писателей (Жан-Филипп Туссен, Жан Эшноз, Эрик Шевийар), которых иногда именуют «бесстрастными», но чаще «минималистами» - за использование самых простых материалов и инструментов, какие есть у прозаика: минимум тропов, минимум сюжетных перипетий. Повествование выстроено вокруг какого-нибудь камерного события или просто череды незначительных происшествий и решено, как правило, в ироническом ключе. Здесь нет прямого описания эмоций, нет авантюрной интриги с неожиданными поворотами, что могло бы, теоретически, спасти от провала посредственно написанный - или посредственно переведенный - роман. Словесный рисунок решает все. И в передаче этой графики Ирина Радченко достигла, по сути, идеала: перевод верен оригиналу до мельчайших стилистических и смысловых деталей, сохранены все ассоциации и намеки, и даже то, что должно прочитываться «между строк».