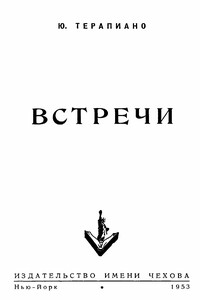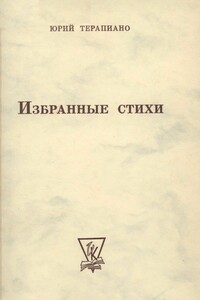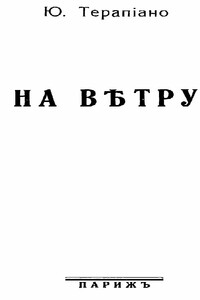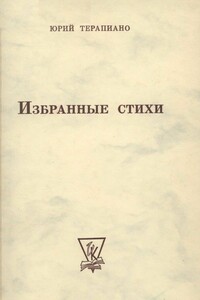Русская зарубежная поэзия | страница 4
Д. Мережковский был прав, указывая на возможность большого творчества в эмиграции — Данте, например, или Мицкевич.
«Если поэты поймут, — говорил он, — всю глубину метафизики современности и сознательно станут глашатаями свободы, — такое творчество неминуемо возникнет».
Вопреки Мережковскому, ни Данте, ни Мицкевича в эмиграции не нашлось, не возникло также никакой громкой, «ударяющей по сердцам» поэзии, революционной в политическом смысле.
Голос эмигрантской Музы был приглушенным, поэты сознательно отстранялись от всякого рода декларативности, стремясь высказать свое «самое главное» в наиболее простых, но точных словах.
Тревога о человеке и о том, чем ему жить духовно в послевоенном, невероятно усложнившемся, жестоком и своекорыстном мире, конфликт личности с коллективом, мечта о возможном братском отношении человека к человеку и, конечно, о любви, о возможности «встречи с Богом» — вот основные ноты тогдашней настроенности.
«Новый трепет», «frisson nouveau», с которого начинается всякая настоящая поэзия, был почувствован зарубежными поэтами.
Вопреки всем пессимистическим предсказаниям, в эмиграции оказалось возможным не только существование поэзии, но и ее развитие — возникновение мироощущения и стиля данной эпохи.
В конце двадцатых годов, пройдя через увлечение акмеизмом. и неоклассицизмом, определив свое отрицательное отношение и к русским и к французским левым течениям, новая зарубежная поэзия остановилась как бы на распутье.
Мироощущение В. Ходасевича, учителя многих молодых поэтов в то время, не отвечало уже тому, чего искали молодые.
Ocтpo-взволнованная, полная иронии и отталкивания от низости и малости души современного человека поэзия Ходасевича все-таки «не насыщала».
Не ирония, не осуждение, а наоборот, сочувствие, жалость, любовь к человеку соответствовали настроению молодых поэтов. Рамки «классической розы» Ходасевича, советы его не терять времени на обсуждение «всяческих метафизик», а лучше — «работать над формой и писать хорошие стихи» — тоже перестали удовлетворять их.
Поэты хотели сказать свое собственное слово, выявить свое мироощущение, а не «повторять пройденное».
В сущности, в эмигрантской поэзии происходил тот же самый процесс «смены поколений», какой неминуемо развился бы и в Советской России, если бы там не было взято на подозрение все относящееся к индивидуализму.
Вопрос о человеке нового времени — не теоретическом, «созданном коммунизмом», а реально существующем во всем мире, лег во главу угла, стал темой для дискуссии, — а такая дискуссия могла происходить только за рубежом.