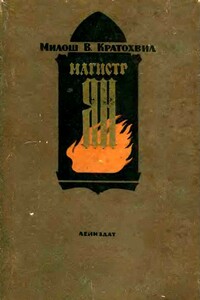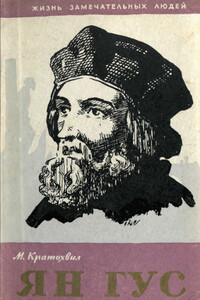Европа кружилась в вальсе | страница 37
В целом ему повезло — лишь в другом конце купе, у самой двери в коридорчик, сидели друг против друга пожилой господин и дама; Каван старался на них не смотреть, чтобы, чего доброго, не дать повода завести банальный дорожный разговор. Но пара в другом конце купе оказалась молчаливой, хотя ни мужчина, ни женщина не читали и даже не смотрели в окно. Они не проронили ни слова. Сидели и безучастно смотрели прямо перед собой, в пустоту. Пожилые люди, явно супружеская чета. Но Казан тут же перестал о них думать, он вообще не мог сейчас ни на чем сосредоточиться. В голове чередовались, заслоняя друг друга, мимолетные картины; бессодержательные и поверхностные, они никак не соответствовали той гнетущей тревоге, которой, собственно, и были вызваны в его сознании. Словно бы оно оберегало себя ими, чтобы не иметь времени сосредоточиться на главном и единственном, от чего сжалось бы сердце и слезы навернулись на глаза. И тем не менее все равно за газетными заголовками, под холстинами полей перед окнами, за черными абрисами голых деревьев и кустов, под темно-зеленым плюшем на сиденьях, в ячейках сеток для багажа, под желтым отблеском на латунной головке рычага-регулятора отопления, за надписью «Не высовываться из окна» на четырех языках — за всем этим, как и за обрывками последних впечатлений, связанных с отъездом и беспорядочно отложившихся в сознании Кавана, снова и снова возникали вопросы: «Что случилось? Застану ли я еще отца в живых? Как-то там мать?»
Но поскольку предугадать ответы было невозможно, ибо они ожидали Кавана там, куда он ехал, то сознание всеми своими здоровыми силами снова и снова противилось мыслям об этом, хотя избавиться от них полностью оно, конечно, не могло. Тем самым оно, вероятно, отодвигало печаль и боль в самые дальние уголки души, поскольку боли противится любой здоровый организм, любая натура, причем чувствительная гораздо активнее, чем стоическая и холодная.
Тяжелее всего будет, подумал Каван, когда он пересядет в Праге на пассажирский поезд, чтобы проехать последние тридцать два километра до Млчехвостов. На том перегоне ему знаком чуть ли не каждый метр дороги, по которой он ездил все годы своей учебы в Праге. Там будет уже все — и особенно сейчас! — тесно связано с домом, с детством, с отцом. Отсюда все это еще далеко, и пейзаж за окном еще чужой, ни о чем не говорящий.
Мужчина и женщина в другом конце купе неожиданно заговорили. Вдруг, ни с того ни с сего. Но раскрыв рты, они говорили уже без умолку. Точно у них оттаяли губы и теперь с них слетали фраза за фразой — продолжение какого-то разговора, надолго прерванного какими-то внешними помехами. Они говорили, умышленно понизив голос. Каван едва распознал, что говорят они по-немецки, но темп речи был стремительным, и даже самые приглушенные шипящие выдавали, что происходит ссора. Спор явно был затяжным и ожесточенным, раз он после столь продолжительной паузы вспыхнул с новой неослабевающей силой. При этом лица говоривших сохраняли заученно-спокойное выражение, и только брошенный порою на Кавана взгляд свидетельствовал, что идет борьба, старательно скрываемая под личиной благоусвоенной холодной невозмутимости.