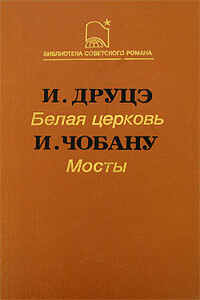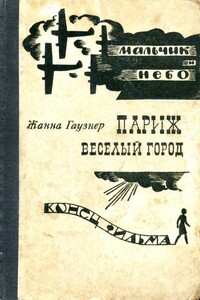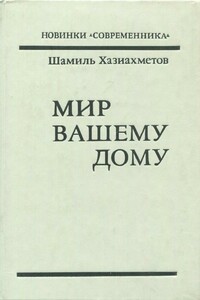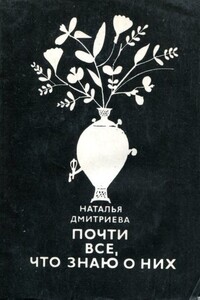Избранное в 2-х томах (Том 1, Повести и рассказы) | страница 8
Нет, советская действительность, сопрягающая в себе лучшие гуманистические заветы прошлого и дерзновенную революционную практику настоящего, требует предельной чувствительности как к подлинным, так и мнимым человеческим ценностям, и наши писатели чутко отзываются на это веление времени.
Следуя бесспорному убеждению, что "человек меняется не так быстро, как может измениться среда, обстоятельства, профессия" * (напомним в связи с этим, что Правобережье Молдавии, где происходили описываемые в романе события, вступило на путь социалистических преобразований лишь в 40-е годы, т. е. намного позже, чем Левобережье), Друцэ нарисовал образ Мирчи в той его заостренной противоречивости, которая позволила резче сфокусировать внимание на проблеме оценки нравственной сущности человека и его деятельности оценки особенно актуальной в период развитого социализма, особенно злободневной с высоты требований сегодняшнего дня! Ведь важно не только то, что Мирча - как представитель массы - осуществляет общее дело этой массы, но и то, как Мирча - уже в качестве индивидуального представителя массы осуществляет это общее дело.
"Личность - подчеркивал Ф. Энгельс, - характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает" **.
Заметим, заострение образа Мирчи, одного из главных действующих лиц романа, позволило Друцэ и резче обозначить проблему, и вместе с тем, выражаясь словами самого писателя, "избежать ремесленничества и штампов" ***.
* Друцэ Ион. Хлебопашцы в Кишиневе. - Комс. правда, 1971, 21 марта.
** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 29, с. 492.
*** Друцэ Ион. Хлебопашцы в Кишиневе. - Комс. правда, 1971, 21 марта.
В отличие от Мирчи Онаке Карабуш, воплощающий в себе многие примечательные черты молдавского крестьянства, наделен той мудрой осмысленностью первостепенности труда, когда "счастье простых рук землепашца" становится единственным, ради чего живешь; тем деятельным брюньоновским жизнелюбием, когда "по первой просьбе одариваешь людей" душевной щедростью; тем чувством внутреннего достоинства, которое придает горделивую "размеренность" походке и сохраняет ее до глубокой старости; наконец, тем осознанием своего жизненного предназначения, которое позволяет до конца выполнить свой долг на земле.
Человек сложной судьбы (Карабуш не раз смотрел смерти в глаза, трижды попадал в плен, пережил гибель на фронте двух сыновей, схоронил жену Тинкуцу, которая после засушливых послевоенных лет ушла из жизни "легкой, бесшумной походкой матери"), он через всю жизнь пронес труженическую стойкость к невзгодам, свое обращенное к людям "улыбающееся нутро", свою, карабушевскую, неприязнь к стяжательству. Онаке устоял перед искушением заполучить за клочок земли неслыханные, по чутурским ценам, деньги. Он и "по гектарам... никогда не сходил с ума". Карабуш "привык пользоваться только тем, что сработано его руками, что он оплатил сам, своим потом", и "просто не понимал, каким образом может стать его собственностью мак, который был посеян другими". Перебирая перед смертью прожитое, Карабуш мягко улыбался "своему богатству": "И все-таки он не изменил себе, несмотря ни на что. Он исполнил свой труд, перепахал свое поле..."