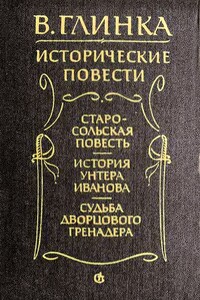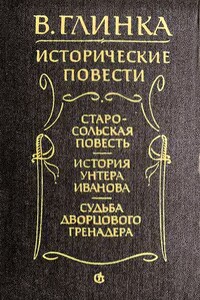Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца | страница 58
Портрет Александра I работы Ф. Крюгера, находящийся теперь в галерее, не был известен Пушкину. Он, как мы уже говорили, был написан только в 1837 году. Но тогда это место занимал столь же крупный конный портрет Александра I работы Доу. Ни этого портрета, ни точного его воспроизведения мы не знаем и о его художественных качествах не можем судить. Но до нас дошла резкая критика П. П. Свиньина, очевидно сформулировавшего те недостатки, за которые портрет и был убран из галереи. Льстец Свиньин пишет: «Напрасно будете искать в лице великодушного победителя той ангельской улыбки, которая обвораживала парижан… Из сего мрачного взгляда на сем равнодушном челе – он (посетитель. – Авт.) ничего не откроет, ничего не прочтет…» Вероятно, Доу слишком реалистически передал облик Александра I.
Еще бабка царя, Екатерина II, называла его «великим актером», и таким он остался на всю жизнь. Мы знаем, что чаще всего, бывая на людях, Александр улыбался «ангельской» улыбкой, прославленной верноподданными современниками, в то же время сохраняя мрачную складку меж бровей, изобличавшую сущность его натуры. Именно таков канонический портрет Александра I в живописи и скульптуре.
Тот же отпечаток носит лицо царя и на портрете Ф. Крюгера. Этому странному контрасту верхней и нижней частей лица посвящена эпиграмма Пушкина, написанная в 1829 году. Вдохновил поэта на создание этой эпиграммы бюст Александра I работы Торвальдсена, стоявший в Публичной библиотеке:
М. А. МИЛОРАДОВИЧ. В 1812–1820 годах популярность ненапечатанных «вольнолюбивых» стихов Пушкина была очень велика. Один из современников поэта свидетельствовал: «Везде ходили по рукам, переписывались и читались его „Деревня“, „Ода на свободу“, „Ура! в Россию скачет…“ и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов».
В столице и в провинции через самый краткий срок после написания читались смелые строки:
«К Чаадаеву», 1818 г.
Или: