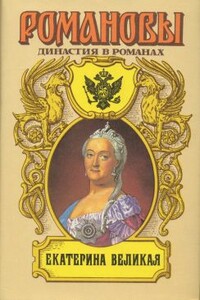Наш Современник, 2001 № 01 | страница 28
В данном случае речь идет об одной из главных проблем современной социальной антропологии. Современный экстремизм раскованной чувственности создает провокационную ситуацию в культуре: новый социальный заказ на религиозно-фундаменталистское или полицейско-диктаторское подавление чувственности и новое раздвоение человека на бесплотное нравственное начало и плотское, подлежащее истязательной педагогике. Такого рода реставраторских поползновений почему-то ожидают в первую очередь от русской культуры, ввиду чего в отношении ее сегодня осуществляется активная “профилактическая” работа, направленная на раздробление ее православного ядра (“архетипа”).
Сегодня в некоторых кругах принято пугать носителей эмансипированной чувственности призраком мрачной аскетики, якобы связанной с православной традицией. Между тем тщательное исследование этой традиции, проведенное такими авторитетными исследователями православной патристики, как архимандрит Киприан, архимандрит Мейендорф, а в наше время — С. Хоружим, достоверно свидетельствует о другом. Антропология восточных отцов церкви отличается поразительной цельностью. Никакого манихейского отвращения к человеческому телу как ловушке высших начал, как греховной западни здесь нет. В этом смысле З. Фрейд, с его мистическим страхом перед греховными безднами подсознания, перед загадочным “Оно”, в плену которых находятся лучшие наши побуждения, — куда больший адепт манихейской традиции, чем православные наставники благочестия. Православная версия спасения имеет в виду не одну только душу как пленницу греховного тела, но всего человека.
сотворил, говорит Он, землю и небо, даю и тебе творческую власть: сотвори землю небом. Ты можешь сделать это”*.
В этих словах выражено кредо православного космизма: материя понимается как изначально причастная духу, пронизанная светлыми энергиями. Этот основополагающий принцип предполагает совсем другое отношение и к окружающей нас внешней природе, и к природе внутренней — нашему телу, нежели та трактовка природы как мертвого объекта или досадного ограничителя нашей свободы, которая характерна для западной
“фаустовской культуры”.
Итак, мы имеем два противоположных горизонта чувственности. Чувственность может выступать как нечто изначально асоциальное — как сидящий в нас бестия, жаждущий вырваться из плена культуры и морали. И она же может выступать совсем в другом горизонте: как повторение и подтверждение боготворенной истории мира, где низшее предназначено быть материалом для высшего, богоподобного.