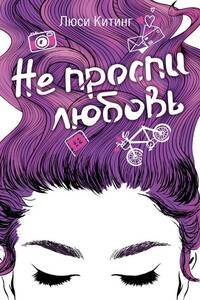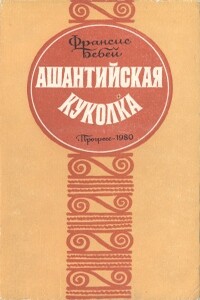Ослиная челюсть | страница 30
Пятно натека февральских ливней наползает косматою рожей Эйнштейна. Амбал, распоясавшись, отступает на квартал к морю. Губы шевелятся, то ли превращаясь в жабры, то ли припоминая на ощупь главное слово любви: «Умираю».
Эйнштейн гримасничает и вползает по трапу в кабину. Ладонь режет плотный, как мякоть, воздух на пирамиды, октаэдры, башни и, взвесив, подбрасывает вослед дирижаблю – магнитной миной.
В окне песочное солнце взрывает теменью город. Амбал корчится, осыпаясь. Тучи аравийских пустот проглатывают дома, зрачок. Сумрак вползает полчищем в мозг, как во взятую крепость. Горят нефтью жилища, рычит и воет казнимое население.
Утро. Выхожу голышом, как в рай, на капитанский мостик.
Колбу кабины пронзил, засыпал стог просеянного облаком света.
Штурман – белый китель, золотая фуражка: чистый журавль – склонившись над картой, бросает из клюва кости, чтоб выбрать азимут курса.
Кровь в жилах теплеет током рассветного света.
Альберт стоит у штурвала с чашкой эспрессо в руке. На меня ноль внимания. Облака – его космы – плывут грядами, громоздятся – баржи, сухогрузы, груженные известкой и белыми от счастья городами.
Внизу, в прогалинах, течет порожняя планета.
И тогда в меня упало слово: ты.
Ко мне моя любовь вернулась.
Потому что смерть есть тяга огромного, как солнце, дирижабля: геенны раскаленная прозрачность.
Контур
Летом, покинув его, она превратилась в бабочку, которую не удалось поймать.
Два года был с ним рядом (ближе, чем локоть) оставленный ею контур – силуэта, профиля тела: его он успевал наполнить плотью и кровью раздумий только по вечерам и ночью, вернувшись с утомительной, хлопотной службы – лакейская должность – маклер: звери-сотрудники, звери-клиенты, не-человек – начальник. И вот однажды, день в день спустя два года, встречает ее: случайно и глупо столкнулись на улице в Центре, в чащобе и дебрях полдневной толпы, и контур ее сам собой – как солнце с лузой зенита – совместился с нею и ожил…
Когда, посидев на бульваре, расстались и, оглянувшись, всмотрелись друг в друга, – увидел, как контур, как кладезь его сокровищ уносит она, сверкая, с собою…
Исчезла. Стало легко, невесомо, нежданно, как в облаке смерти, как в облаке смерти, – заметил, как сердце, как сердце подалось вперед из груди и тянет, и тянет, и тянет – и бьется теперь прозрачно в листве лип – и тянет его с собою…
Прохожие превратились в статуи, напитавшись облачной, густой белизной.
Он клянется себе, что дотянет до третьей по ходу скамейки.