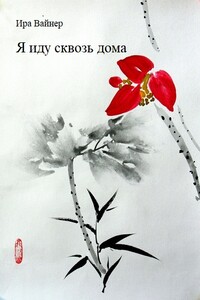Стихи 1930 — 1937 | страница 4
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Лэди Годива, прощай… Я не помню, Годива…
Январь 1931.
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
Январь 1931, Ленинград.
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за Твою рабу…
В Петербурге жить — словно спать в гробу.
Январь 1931.
После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет — хорошо озорует,
Любишь — не любишь: ни с чем не сравнишь…
Любишь — не любишь, поймешь — не поймаешь.
Так почему ж, как подкидыш, дрожишь?
После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь.
Март 1931. Москва.
Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Храп горожан
И толкотня в гардероб.
Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
С шапкой в руках, шапку в рукав —
И да хранит тебя Бог.
Март 1931. Москва.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри — бренди, —
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли, —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.
Март 1931, Москва, Зоологич. Музей.
Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно — и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
Март 1931. Москва.
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы