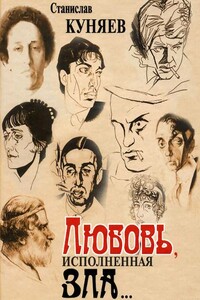Сергей Есенин | страница 27
Словом, как пелось в популярном романсе тех лет, «Маруся отравилась». Но не следует думать, что это было лишь какой-то игрой или позой. Несомненно, в отрочестве и юности у Есенина наступали такие минуты, когда он с трудом справлялся со своими сомнениями, комплексами, слабостями, неудачами. «Небольшую, но ухватистую силу» поэт приобрел позже, после знакомства с Клюевым, научившим его надевать различные защитные маски, чтобы спастись от «страшного мира». С годами Есенин понял, что самая лучшая защита его поэтической души – это не воля и даже не талант, а умение носить ту маску, которая сегодня спасает тебя от посягательства корыстных и темных сил, жаждущих власти над беззащитным талантом. Итог этой многолетней внутренней работы сформулирован им в «Черном человеке»:
Первые его стихи 1912–1913 годов лишены всех масок, всей многомерности натуры, всех защитных средств, которыми он в совершенстве овладел позднее:
В 1912 году он составил маленький цикл стихотворений и назвал его бесхитростно: «Больные думы». В них явственно прослеживается влияние Надсона, самой риторической части наследия Алексея Кольцова, поэзии Ивана Никитина и молодого Лермонтова. Названия стихотворений говорят сами за себя: «Звуки печали», «Мои мечты», «Слезы», «Брату Человеку» и т. д. Надсоном Есенин переболел очень быстро. Сергей Соколов – учитель Константиновской школы – вспоминает разговор с Есениным летом 1925 года:
«Заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах… Есенин слушал внимательно, а потом сказал:
– Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин – вот истинно русская душа…»
Весь цикл «Больные думы» вместе с другими стихами спас-клепиковского периода, написанными в 1910–1912-х годах, настолько несамостоятелен, подражателен, однообразен, что Есенин впоследствии никогда не вспоминал о них и не включал ни в один из своих сборников. Тем более парадоксальным кажется то, что несколько стихотворений: «Выткался на озере…», «Сыплет черемуха снегом…», «Дымом половодье…», подготавливая последнее Собрание сочинений, он датировал незадолго до смерти 1910 годом! Эти стихи – подлинные шедевры есенинской лирики, неизмеримо значительнее, нежели подражательные опыты из спас-клепиковской тетрадочки, написанной вроде бы гораздо позже.