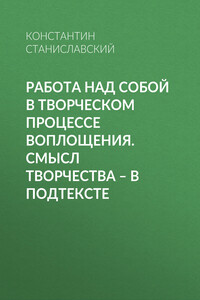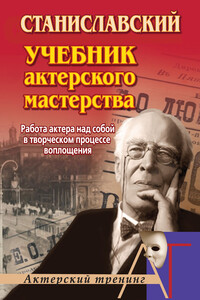Моя жизнь в искусстве | страница 158
Венецианцы выстроились на авансцене – спинами к зрителю – в ожидании нападения.
Наконец обе подкрадывающиеся толпы бросились с обеих сторон на венецианцев, и начался бой, в самую гущу которого ворвался бесстрашный Отелло, с огромным широким мечом, которым он точно рассекал толпу. Вот здесь, в самом горниле смерти, можно было оценить его боевые способности и отвагу. Можно оценить и сатанинский замысел Яго.
Не мудрено, что проступок Кассио, вызвавший такие катастрофические последствия, показался Отелло огромным. Понятно, что и суд над ним был строгим, наказание – суровым. Теперь завязка пьесы подготовлена режиссером в широком масштабе. Он, пока мог, помогал актеру своей постановкой.
Начиная с третьего акта никакой режиссерский трюк невозможен. Тут дело в актере, на которого и падает вся ответственность. Однако, если у меня не хватило простой выдержки и внутренней разработки рисунка для трагической сцены третьего акта "Акосты", где надо было показать внутреннюю борьбу убеждения с чувством, философа с любовником, то откуда же мне было взять гораздо более трудную технику для Отелло, где все построено на математической постепенности в развитии чувства ревности, начиная с спокойного состояния, через едва заметное зарождение и развитие страсти до самых вершин ее. Шутка сказать – провести нарастающую линию ревности от детской доверчивости Отелло в первом акте – к моменту первого сомнения и зарождения самой страсти, и далее вести ее с неумолимой последовательностью по всем ступеням развития до ее апогея, т. е. до звериного безумия. А после, когда невинность жертвы стала несомненной, сбросить чувство с вершины вниз, в пропасть отчаяния, в пекло раскаяния. Все это я, глупец, надеялся провести с помощью одной интуиции. Конечно, кроме безумного напряжения, душевного и физического истощения, выжимания из себя трагического чувства, я ничего не мог добиться. В бессильных потугах я потерял даже то малое, что добыл в других ролях, чем я как будто начал владеть со времен "Горькой судьбины". Не было ни выдержки, ни сдерживания темперамента, ни распределения красок, – одна лишь потуга мышц, надрывание голоса, всего организма, выставленные во всех направлениях душевные буфера для самозащиты от непосильных задач, которые я сам себе поставил в связи с впечатлением от Сальвини и требованиями, выросшими из них.
Надо быть справедливым. В первой половине пьесы у меня были не плохие места.
Например, первая сцена третьего акта с Яго, в которой он вкладывает в душу Отелло первые сомнения; сцена с платком Дездемоны и проч. На это хватало моей техники, голосовых данных, опыта и уменья; но дальше, чувствуя свое бессилие, я думал только о необходимых усилениях и вызывал тем напряжение мышц. Здесь был такой же хаос в мыслях и самочувствии, с каким я познакомился в роли Петра в "Не так живи, как хочется". О систематическом и постепенном нарастании чувства не могло быть и речи. Хуже всего обстояло дело с голосом, наиболее тонким органом, не терпящим напряжения. Еще на репетициях он неоднократно делал предостережения.