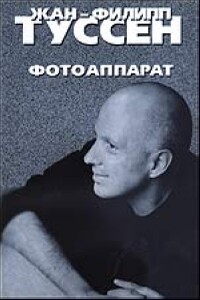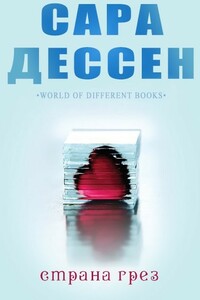Соловьиное эхо | страница 26
И ему представлялась мать в гробе, смерть которой и похороны он вспомнил, сидя в кибитке: белое, неподвижное лицо матери, словно гипсовая маска, и сложенные на груди руки, бесчувственные и негнущиеся, как доски, и все на ней – даже ее посмертное одеяние, кольцо на руке, цветы гробовые – было сковано отчужденной неподвижностью смерти. И лишь волосы ее, золотисто-нежные, густые легкие волосы были прежними, живыми, и трогал их невидимый сквозняк, страшно шевеля ими, словно хлопотали вокруг усопшей призраки иного мира… Отто Мейснер открыл глаза и обнаружил, что он уже давно взрослый, находится на пути, где-то посреди Чингисхановой степи в осеннюю распутицу, и возница остановил, оказывается, лошадей, чтобы побеседовать со встречным человеком, и тот, высокий темноликий туземец, держит на загорбке ягненка, захватив в каждую руку по две тонкие ягнячьи ножки. И бедный ягненок, которого несли, чтобы спасти его или, наоборот, на заклание, поднял голову вверх, как это делают с жалобной надеждой все поверженные существа с длинными шеями. Детские глаза ягненка уставились на Отто Мейснера. «Это же я, неужели ты не узнал меня?» – спрашивали они. «Да узнал. Ты беспомощная, кроткая и безмолвная овечка, отданная в руки жестокого жреца. Но не пытайся спрашивать, какой смысл в подобной жертве, я не знаю», – мысленно ответил магистр философии и вновь закрыл глаза. Рядом сидела, прикасаясь к нему плечом, жена, державшая на руках сонного ребенка.
И магистру вспомнился иокогамский порт, нарядная пестрая толпа на пристани, путаная мишура длинных бумажных лент, протянутых меж берегом и кораблем, который медленно, едва заметно для глаз, но неуклонно отодвигался от стенки причала. Люди на берегу и пассажиры на борту судна держались за разные концы этих бумажных лент, и Отто Мейснер, навсегда покидавший Японию, куда он заехал по предписанию деда, смотрел сверху на машущую платками и веерами толпу провожающих. То и дело пролетали над нею легкие ленты серпантина, на миг плавной дугою замирали в воздухе, затем бессильно опадали вниз, словно знаки отчаянной попытки еще раз достичь, коснуться любимого существа в пронзительную минуту разлуки. Крики, порхающие веера, покачивание высоких причесок, в узлы которых японки втыкают большие, как кинжалы, оловянные шпильки. И вдруг взобрался на причальную тумбу какой-то вдохновенный юноша, поддерживаемый снизу товарищами, снял с головы студенческую шапочку и, далеко откинув ее в вытянутой руке, чудесным голосом запел прощальную песню.