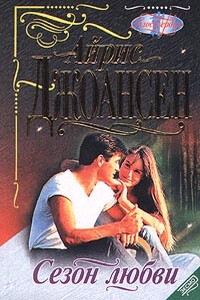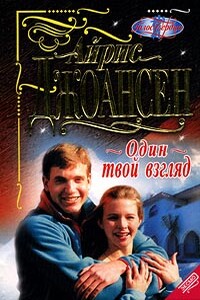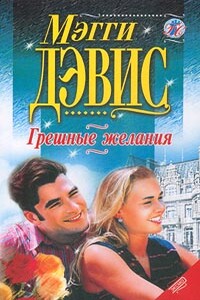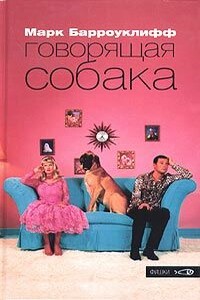Подружка №44 | страница 61
Во время моей учебы в колледже были в моде плакаты с кадрами из фильмов. Помню один, из какой-то чешской картины, что я видел в комнате у девушки: мужчина на коленях на железнодорожной платформе, и прелестная девушка садится в поезд. Пожалуй, именно на эту девушку Элис была похожа больше всего. Режиссеры полагали совершенно очевидным, что коленопреклоненный мужчина предлагает девушке руку и сердце, тогда как она радостно начинает новую жизнь, или едет по магазинам, или что угодно еще, – и они были правы. От актера требовалось изобразить чистую романтическую любовь. Теперь я знаю, что он думал по роли в ту минуту: трахни меня, возьми меня, выйди за меня. Последовательность любая. По-моему, это и есть романтическая любовь. Правда, скорее всего, тот актер был «голубой» и ничего подобного к женщине испытывать не мог.
По-хорошему, в этом описании вообще никакого смысла нет. Истинная красота – сама по себе вид искусства; слова – лишь ее отражение, как фотография гениального полотна живописи, снятый по книге фильм или, того хуже, книга, написанная по мотивам фильма. Ну, вы, наверное, меня понимаете.
В давно ушедшие времена поэты сравнили бы ее губы с кораллами, кожу с алебастром – и доля правды в том есть, ибо лицо у нее действительно ослепительно белое, – но можно представить себе, как легко она загорает летом. Однако мне Элис – образ Элис – представлялся воплощением мечты, фантазией, облеченной в плоть. Вид у нее был одновременно уверенный и беззащитный. Казалось, она отвечает всем противоречивым требованиям, которые могут прийти в голову мужчине. Выглядела она крайне предосудительно – «шлюховато», по меткому определению одного из моих друзей по электронной переписке, – но ее целомудрие в тысячу раз превосходило это.
Другой из моих знакомых как-то сказал девушке, что голос ее глаз глубже, чем любая роза. Девушка спросила, сам ли он такое придумал, и он, разумеется, ответил: да. «Забавно, – заметила она, – вот и Каммингс так говорил». Но, представьте, у Элис было то же самое! Я заглянул в ее глаза и увидел конец гонки, конец бессмысленному шатанию по вечеринкам, клубам и барам. Я увидел там тихие дни у моря, ночи у камина, машину, тормозящую рядом с прелестным домиком под черепичной крышей, – все романтические штампы сразу. С этой девушкой можно было вместе стареть. Не могу сказать наверняка, готов ли я завести детей, но для нее постарался бы.
Наше общее будущее было абсолютно ясным. Я сделаю предложение на вокзале, как на том плакате; каким-нибудь безумным подвигом докажу свою состоятельность ее тирану-отцу, затем нас на долгие годы разлучит война, а вернувшись, я застану ее с моей фотографией в руках, и выглядеть она будет лет на пять-семь моложе, чем перед разлукой. Она заболеет ужасной болезнью, и доктора велят мне (то есть нам) готовиться к худшему, но я отправлюсь в Америку и там найду чудо-лекарство, единственную нашу надежду, по словам талантливого молодого врача: «в лучшем случае тридцать процентов гарантии». Она излечится, и на радостях мы напьемся до беспамятства в солнечный денек, сидя у реки. По дороге домой меня собьет автомобиль, и следующие полгода она проведет у моей постели, самоотверженно выхаживая меня, отчего наша любовь станет еще сильнее. Затем трогательная сцена: она помогает мне делать первые шаги. Далее, не успею я проработать и трех недель, меня ложно обвинят в растрате – нет, минуточку, если уж фантазировать, то работать я не буду, но неважно, – и она будет бороться за мое доброе имя и найдет неоспоримое доказательство вины моего нечистого на руку шефа. Мне выплатят огромную компенсацию за моральный ущерб, и остаток дней мы проживем в роскоши.