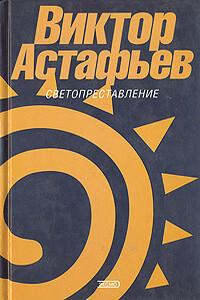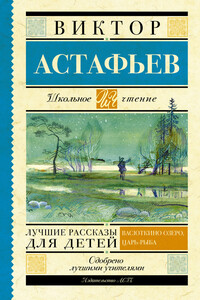Тельняшка с Тихого океана | страница 15
Мишка словно ждал моего этого шага, словно готовился к нему и заранее копил гнев: вскочил с травы, хватанул под мышки двух сельдючат, будто чурки дров, отнес и бросил их за школу, на обратном пути отвесил пинка бычку, да такого, что тот пошатнулся. Прикусив черную болячку и шипя ртом, ноздрями, выдохнул мне в лицо брызги пены: «Барашный в…! Панский кусошник!.. Если ты не спрыснешь со станка, я запорю тебя и мамочку твою — красотку!»
Вот тебе и сельдюк! Конечно же все это, кроме кипевшей на Мишкиных губах пены: и гнев его, и угрозы, и слова — выглядело мальчишеством. В детдоме умели рыпаться и повыразительней, но, право слово, я впервые столкнулся с такой, уже выношенной, что ли, затверделой ненавистью.
Ну, что мне оставалось делать? Дни и ночи возиться с Зоськой. Сестра моя — человек по складу своему совсем несовременный, человек века этак девятого, времен первокрещения языческой Руси, по отсталости своей еще в младенчестве усекла, что все человечество любить ей не по силам, всех ей не охватить, и выбрала наиболее привычный слабым женщинам путь: любить и жалеть одного человека. И этим человеком оказался я. В Карасине меня дразнили: «Вава, дай ручку!» — я отбрыкивался от Зоськи, гонял ее от себя, родители наказывали ее за то, что она половинку печенинки или надкушенную конфетку таскает, таскает в кулачишке, аж пальцы склеятся. Допросят: «Зачем?» Врать дитя не умеет, и по сию пору не выучилось. «Для Вавы». В ней уже тогда выработался христианский стоицизм и большевистское упрямое стремление к истине, ко всеобщему братству, и каким-то образом не исключали они друг друга, хотя именно так, по передовой, материалистической науке, должно было неизбежно произойти.
На улице похолодало, и меня «сняли» с чердака. Каждое утро пан Стас заставлял меня чистить зубы, мыть в ушах, осматривал мои руки, придирчиво занимаясь моей личной гигиеной, гневно торжествовал, если случались по этой линии срывы и упущения, вроде как даже не решался доверить мне драгоценное «дзецко» в белых кудерьках, в цветастом платьице, в полосатых носочках и сандаликах с ремешками. Мама говорила так, чтоб слышно было строгому мужу: «Оболтус! Быдло! Зарази только ребенка царапкой, дак живо вылетишь из дому…»
Радист научил меня стрелять из ружья, и бывшая без дела двустволка пана Стаса перешла в мое полное владение. Я таскался с ружьем по ближним озерам, губил уток, и они, повалявшись на ларе в кладовке и протухнув, оказывались на свалке, где их расклевывали вороны и растаскивали чайки, — не будет же мама заниматься паскудным бабьим делом — теребить и палить уток. Она валялась на кровати в шелковых чулках, шевеля губами, читала принесенную мной из библиотеки книжку «Тысяча и одна ночь», восклицала с неподдельным, восторженным изумлением: «Бож-же, что на свете деется! Ка-а-акой разврат!..»