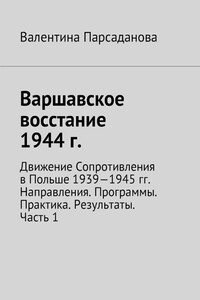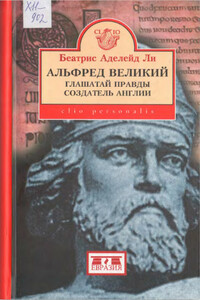Запасная столица | страница 42
Закипал чайник. Он был сделан из какой-то авиационной детали с веселым свистком – сигнальщиком. А вот и стук в дверь! Мы опрометью бросались навстречу матери.
– Мам, мы есть хотим!
– Сейчас, сейчас. Я только обогреюсь немного. Какие вы молодцы – истопили. Что бы я без вас делала? И чай уже готов? Совсем хорошо!
А я или Василий уже ставили на печку сковородку и открывали материну сумку: что-то она привезла? И – привезла ли?
Я ходил в шестой класс. Каждое утро идти из лесу к шоссе приходилось мимо глухих лагерных ворот – зоркий глаз охранника провожал парнишку. Ни разу не встречалось мне, как выводили заключенных на работу. Должно быть, это происходило в более ранний час. Только что снег был заметно истоптан множеством ног. Видел я другое.
В зиму 42-го и 43-го годов, почти каждый день, когда я шел мимо ворот в школу, вывозили из лагеря покойников. Заиндевевшая лошаденка, запряженная в розвальни, и на санях пять, семь гробов из горбыля, увязанных мерзлой веревкой. Расконвоированный заключенный в ватных штанах и телогрейке топчется с вожжами, пока охранник, тыча пальцем, пересчитывает гробы.
– Все сходится, трогай!
Где хоронили несчастных, я не знаю. Сейчас, поди, никаких следов не найти: памятников им не ставили.
Почему я тогда – ведь уже тринадцатилетний мужичишка – не осознавал ужаса человеческой трагедии, изо дня в день, рядом со мной – всего-то двадцать метров до колючей проволоки – происходившей в лагере? Не могу объяснить. Приводились в действие какие-то неведомые, защитного назначения, нервные центры или хотя бы волокна, оберегая душу мальчишки? Не знаю.
Хорошо до четкости помнится иное. Раз в месяц, примерно, мать собирала детей в баню. Вечером, с пропуском, мы проходили под лязг засова внутрь лагеря. Ни единой души навстречу. Ни огонька. Черные глухие бараки.
Я, старший, никогда не спрашивал мать о ее взаимоотношениях с заключенными. Судя по некоторым приметам, они уважали доктора. Когда мы вчетвером, уже нагишом, входили в банный жар, глаз поражал блеск выскобленных полок и скамей. Не дольше часа мы, поди, мылись-то. Но за это время наше бельишко уже было выстирано, прожарено и выглажено! Неимоверно! Но – было, не ошибаюсь.
Мать одаривала банщиков моршанской махоркой, всего-навсего пачкой. Они были счастливы, если счастье возможно в лагере. И запомнил я, может статься, – главное. Вот что врезалось навсегда: это выражение глаз банщиков, мужиков годов уже под пятьдесят, когда глядели они на румяных после банного пара ребятишек. Сколько совершенно необъемного светилось в глазах: нежность, печаль, радость, легкость и тяжесть собственных воспоминаний о своих детях и внуках, безнадежность и надежда…