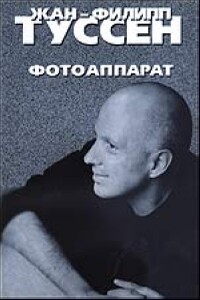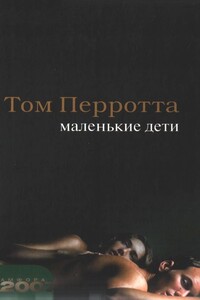Бонташ | страница 51
И так чудесно опустить голову, закрыть глаза и погрузиться в волны искрящегося мрака, отдаваясь горячим ласкам этих тонких и слабых рук.
На следующий день Димара сказала Геннадию, что у неё в Ленинграде муж, тоже аспирант. Весь этот свой последний день в Паланге Геннадий имел слегка пьяный вид, рассказывая всем по секрету о муже, делал намёки на какие-то предстоящие в Ленинграде встречи, но с Димой всё же не разговаривал и собирался сесть в автобус за городом, на выезде из Паланги, чтобы она его не могла проводить. Но уезжал он всё-таки из санатория, в хорошем настроении, и провожали его мы все, т.е. все из компании, кто ещё не уехал. А уехали уже многие.
Истекал и мой срок. На сутки раньше уезжал архитектор Толя. Машина уходила в шесть утра, и он решил не ложиться, чтобы не проспать. Я в его комнате просидел до трёх часов. Мы сдружились с ним после того, как я однажды рассказал ему про Одессу и про Люду Соколову, рассказал правдиво и вдохновенно, воодушевляемый гулом угрюмого Балтийского моря. Это было на пустынном берегу в облачный день, который уже истекал. Мы вытирались после купания одним полотенцем, когда я сказал ему: "Толя, мне кажется, что ты, так же, как и я, в душе поэт, не правда ли?" – "Да, – отвечал он, – я иногда это чувствую." – "Скажи честно, не писал ли ты стихи?" – "Откровенно говоря, писал кое-что…" – "Это плохо… Значит, ты не настоящий поэт. Но всё же слушай. Я расскажу тебе нечто, что только тот, кто поэт душою, может понять!.." И я, шагая по вечерним дюнам с полотенцем на плече, перенёсся на далёкий солнечный черноморский берег, к прекрасной незнакомой девушке с тёмными ресницами.
На него рассказ произвёл впечатление, вызвал ответные рассказы. Мы окончательно стали друзьями. Мнго интересного было между нами переговорено, Вот и сейчас, проводив Тамару, я пришёл в последний раз в его комнатку, рассчитанную на двоих, где он сейчас один. Всё уже собрано и уложено в чемодан, стоящий открытым на стуле. На яркую лампу надет бумажный колпак. Табачный дым от его папирос. Я сижу на кровати, опершись спиной о стену и, глядя в угол, рассказываю ему из своего немудрёного прошлого что-то мало весёлое. Он сидит на кровати напротив и делает мой карандашный набросок. Я заранее знаю, что он будет непохож, как и все когда-либо деланные мои портреты и силуэты. Так и оказалось. Но мне было интересно видеть, как он меня понимает. Горький изгиб рта, глаза с внутренней печалью, невесёлой иронией… Нет, это, кончно, не совсем так.