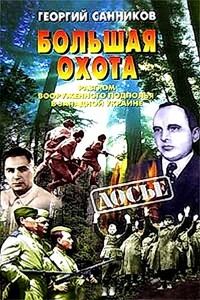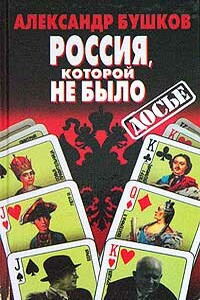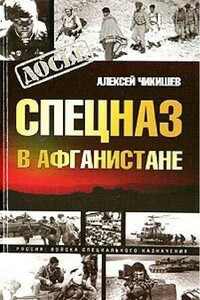Борьба за власть: Троцкий, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов | страница 29
Этим в качестве реакции на сдержанные отношения к сталинским новациям большинства партийного актива и части интеллигенции был дан старт следующему страшному этапу государственного беспредела и террора.
Директивы ЦК не оставляли ни малейшего шанса никому, включая первых секретарей ЦК республиканских компартий, крайкомов и обкомов, а также руководителям любого уровня в армии, в государственном и хозяйственном аппарате, самым талантливым ученым и творческим работникам, просто рядовым гражданам, даже сотрудникам карательных органов избежать обвинения в двурушничестве или хотя бы в пособничестве… Ради этого, собственно, и затевался весь процесс. Никто не искал врагов, – с целью приведения страны в состояние рабского испуга и покорности под прицел ставилось все население страны, но, конечно, в первую очередь, каждый, кто имел хоть какую-нибудь индивидуальность или мог иметь собственное мнение.
Однако, несмотря на имеющиеся у большинства перечисленных лиц возможности, обобщая опыт террора времен Гражданской войны и коллективизации и уничтожения оппозиции, предвидеть не только перспективу развития событий и даже вероятность личной трагедии, никакой солидарной организованной самозащиты у наркотически одурманенных пропагандой и парализованных страхом за свою судьбу людей не произошло, ибо никто из них никогда не изменял партии, не был в оппозиции. Они были преданы И. В. Сталину.
Лишь единицы сумели предвидеть масштаб грядущей национальной трагедии и ее опасность. Так, 26 августа 1936 года покончил жизнь самоубийством М. П. Томский (Ефремов) – видный революционер, крупный государственный деятель, бывший председатель ВЦСПС.
Мне лично известны только три случая, когда люди спаслись в больницах, симулируя или используя тяжкие смертельно опасные болезни (к последним, в частности, относится Г. И. Петровский, председатель Верховного Совета УССР, который был парализован после инсульта, последовавшим за расстрелом его сына – командира Красной Армии).
И если в Москве, в столицах республик, крупных центрах аресты носили массовый, но прицельно персональный характер, то в глубинке, аналогично периоду Гражданской войны и коллективизации, преобладал количественный принцип – вышестоящий карательный орган директивно указывал число граждан, подлежащих репрессиям, подсказывая лишь социальную принадлежность, а остальное зависело от приоритета, симпатий, прихоти или самодурства местных карателей.