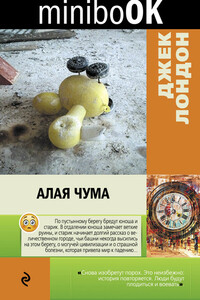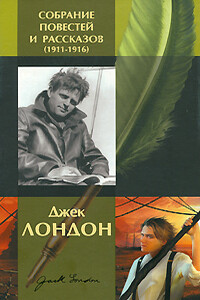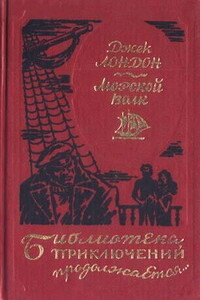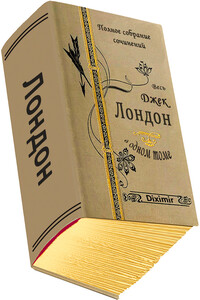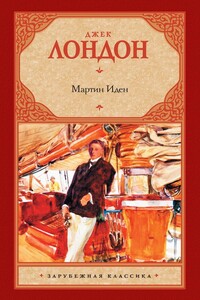Джон - Ячменное Зерно | страница 57
Когда Виктор поутих и стал впадать в беспамятство, мы поладили с хозяином кабачка, уплатив ему за причиненные нашим товарищем разрушения, и отправились вдвоем с Акселем искать для выпивки местечко поспокойнее. На главной улице не прекращалось буйное веселье. Сотни матросов плясали и веселились напропалую. Понимая бессилие начальника полиции, который не мог образумить гостей с небольшим штатом блюстителей порядка, губернатор колонии издал приказ всем капитанам собрать людей по судам до захода солнца.
Что-о? Такое обращение! Едва эта новость облетела шхуны, всех, словно ветром, сдуло на берег. Даже те, кто и не собирался в город, стали прыгать в шлюпки. Злополучное распоряжение губернатора послужило поводом для всеобщего дебоша. Солнце уже давно скрылось, но все были полны задора: пусть попробуют выдворить нас отсюда! Больше всего народу собралось перед домом губернатора; толпа горланила матросские песни, с гиканьем и топотом отплясывала виргинскую кадриль и другие народные танцы, плоские бутылки с «Якорем» ходили по рукам. Полиция, хоть и усиленная резервами, была бессильна что-либо предпринять, и полицейские, сбившись в кучки, тоскливо ждали дальнейших распоряжений губернатора. Но тот, конечно, мудро воздерживался.
А мне вся эта вакханалия ужасно нравилась. Для меня словно возродились времена испанского владычества. Я видел лишь смелость и дерзание: вот как действуем мы, неустрашимые мореплаватели, среди японских бумажных домиков!
Губернатор так и не издал приказа очистить город, и мы с Акселем долго еще кочевали из одного кабачка в другой. Потом, уже порядком осоловев, я выкинул какой-то номер, в результате которого мы с ним потеряли друг друга. Оставшись один, я продолжал заводить новые знакомства, пил и все пуще пьянел.
Помню, в каком-то месте я подсел к компании японских Рыбаков, рулевых-гавайцев из нашей флотилии и молодого матроса-датчанина, недавно покинувшего Аргентину, где он подвизался в качестве ковбоя. Этот датчанин очень интересовался национальными обычаями и церемониями. Поэтому мы пили с полным соблюдением японского этикета сакэ — бесцветный тепленький и слабый напиток, который подавался в миниатюрных фарфоровых чашечках.
Еще мне запомнилась встреча с двумя парнями лет восемнадцати — двадцати из английских семейств средней руки. Беглые юнги, сбежавшие с кораблей, где они проходили учение, они в конце концов угодили на промысловые шхуны матросами. Это были здоровые, румяные, ясноглазые ребята, почти мои ровесники, приучавшиеся, как и я, к жизни среди мужчин. Впрочем, их уже можно было считать мужчинами. Пить слабенькое сакэ они не желали. Они требовали отравы похлестче, чем в бутылках из-под «Якоря», — отравы, которая жидким пламенем растекалась по жилам и воспламеняла мозг. Помню, эти ребята пели чувствительный романс с таким припевом: