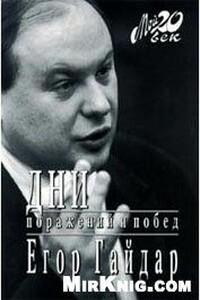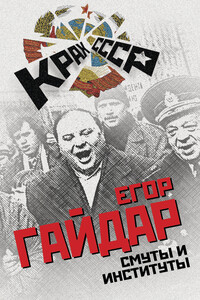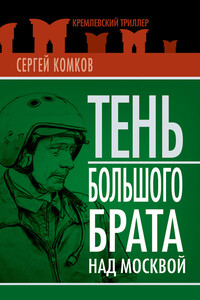Гибель империи | страница 16
Мировой опыт свидетельствует: империя и политическая свобода, если речь идет о реальном демократическом избирательном праве для всех подданных, несовместимы.[41]
В начале 1950-х годов Франция отказывалась признать принцип равенства избирательных прав европейского и коренного населения в Алжире, территорию которого рассматривала как свой департамент. Правило двух избирательных коллегий означало, что один голос европейца считался равным 8 голосам мусульман. В 1954–1958 гг. позиция французских властей меняется. Они, наконец, осознают неизбежность предоставления всеобщего избирательного права, понимают, что без этого удержать Алжир невозможно. Однако тогда ничто меньшее, чем полная независимость, лидеров освободительного движения уже не устраивает.[42]
Ограничение избирательных прав населения колоний соответствовало реалиям XVI–XVII вв., когда начиналось формирование европейских империй, миру XVIII–XIX вв., в котором готовились предпосылки современного экономического роста. Однако оно противоречит представлениям о разумном государственном устройстве, характерном для второй половины XX в. К этому времени в мире укоренилось убеждение в том, что не сформированные на основе всеобщего избирательного права, равноправной конкуренции политических сил органы власти не легитимны. И метрополии, пытающиеся сохранить свои колонии, и элиты колоний об этом осведомлены. Для сохранения империи остается одно средство – насилие, необходимое, чтобы принудить живущие в колониях народы принять устоявшийся режим как данность, с которой невозможно спорить. Но империи сталкиваются с проблемой, обозначенной одним из соратников Наполеона – Талейраном: «На штык можно опереться, а сесть нельзя».
Во второй половине XX в. в политической риторике, аргументах тех, кто выступает за сохранение колоний, акцент все в большей степени делается не на то, в какой степени это выгодно метрополии, а на пользу сохранения империй для самих колоний, на то, что метрополия помогает им создать правовую систему, развитую инфраструктуру.
Меняется и финансовый контекст функционирования империй. До конца Первой мировой войны общепринятым было представление, что колонии должны себя финансово обеспечивать, оплачивать функционирование колониальной администрации. Под влиянием меняющейся в развитых странах интеллектуальной атмосферы в развитых странах уже в 20-х годах XX в. эта традиция уходит в прошлое. Возникает парадигма, в рамках которой метрополии должны выделять финансовые ресурсы на ускорение экономического развития колоний.