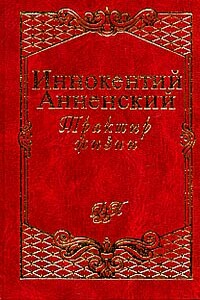Леконт де Лиль и его «Эринии» | страница 24
«Ты больше не мать мне, — продолжает Орест, — какой-то пугающий призрак обвиняет и судит тебя. А ты? Твое имя — Хитрость, Измена. Убийство и Прелюбодеяние. Бог делает мне знаки сверху. А из подземной обители, не сводя глаз, смотрит на меня отец. И он раздражен запоздалостью мщения».
Новый автор включил в эту же сцену черту из эсхиловского «Агамемнона».
И здесь она даже, пожалуй, уместнее. Клитемнестра, в отчаянии хватаясь за соломинку, хочет уверить сына, что через нее действовала Эринния: убивая мужа, она была лишь орудием «не сказанного и не знающего узды демона». Сцена имеет великолепное развитие. Царица доводится в ней до полного смятения: она то униженно молит пощады, то пугает сына лаем «загнанной стаи адских призраков». И наконец замолкает после пароксизма дикой злобы. Последние слова ее: «Будь проклят». Орест наносит ей, однако, роковой удар, а следом и возмездие не заставляет себя ожидать.
Напрасно убийца старается уверить себя, что он был прав и что одобрение встретит его среди граждан. Напрасно старается он также не глядеть на покойную. Сквозь незакрывшиеся веки мать точно внимает теперь его оправданиям, большая и неподвижная. И глаза Ореста сами собою постоянно обращаются к созерцанию ее тела. Напрасно он набрасывает даже на лицо покойной ее пеплос. Гроб отца, и тот как бы отказывается поддержать матереубийцу. Напротив, это именно там, по обе стороны кургана, появляются две Эриннии. Убийца переводит глаза опять на труп: вокруг него стоят уже три Эриннии. Наконец, грозные призраки возникают повсюду. Орест хочет вызвать их на спор, на обвинение, пускай они грозят и проклинают. Нет, молчат и стерегут.
Убийца делает попытку убежать. Не тут-то было. Путь тотчас же заступает Эринния. В другую сторону, — а там уже новая. Таков конец этой великолепной трагедии. Она проведена с редким мастерством.
Но лучше, пожалуй, забыть об Эсхиле, когда смотришь трагедию француза.
Не то, чтобы Леконт де Лиль не вдумался глубже всех нас в замысел древнего трагика. Не то, чтобы можно было и точно поставить теперь на какую-нибудь сцену, кроме школьной разве, эсхиловскую трилогию.
Но многое все же оставляет нас неудовлетворенными в великолепном спектакле французов.
Осталась трагическая история. — Но где же трагический миф? Неужто затем гениальный трагик собирал восемнадцать тысяч греков под палящие лучи мартовского солнца, чтобы показать им, как дурно и невыгодно для человека быть судьей, а главное, палачом собственной матери? Но ведь это знал всякий мальчишка от своего учителя. Трилогия Эсхила