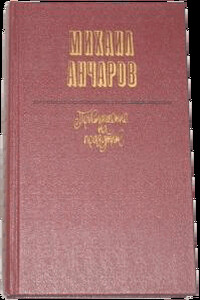Этот синий апрель | страница 65
Пришли они втроем в салон на Кузнецком и стали смотреть выставку Кончаловского. Костя на выставке делается как каменный. Ничего не соображает. Только улыбается. Он художник. Он мазки читает как ноты, С ним живопись разговаривает на «ты». Гошка тоже рисует, но на выставках его охватывает печаль, как будто заглянул в окно на первом этаже сквозь занавеску, а там елка и детишки в валенках смотрят на золотые орешки.
— Подожди, — сказал Костя. — Девчата знакомые.
Подошли его знакомые девчата, и Костя стал на них смотреть, как будто это не живые дипломницы-искусствоведицы, а портреты дипломниц в багетных рамах, — прищуривался и улыбался. Красивые такие девушки, которые все понимают в живописи и потому снисходительно относятся к чудакам, которые ею занимаются, и ведь ясно, что важнее искусства всегда были комментарии к нему. Ну конечно, на Благуше в это не верили.
И тут Гошка смотрит — обе девушки как-то стали вести себя торопливо, а Костя напряженно.
Пол на выставке был хорошо натертый, и от этого в зале было холодно. По-разному люди держатся на скользком полу. Некоторые чувствуют себя неуверенно, теряют устойчивость. Некоторые чувствуют себя подтянутыми, способными на ловкие быстрые поступки — иногда это жулики. Простые души ощущают праздник — им хочется танцевать, звенеть бокалами и чтоб их заметили. А некоторые тупо движутся по зеркальному полу — так, по их мнению, выглядит хорошая жизнь.
Человека, который шел к ним по натертому полу, Гошка сразу понял, хотя и не знал тогда, кто он такой. Его внешность кого угодно могла ввести в заблуждение. Полноватый, небольшого роста, в синем костюме с орденом Ленина на лацкане, нездоровое матовое лицо, приподнятые брови и еще прилизанные волосы и маленькие усики над чувственными губами сладкоежки. Представьте себе располневшего Макса Линдера с орденом на лацкане — какая-то смесь должностного лица с метрдотелем. Все эти многочисленные детали схватывались мгновенно и должны были производить неприятное впечатление. Но этого почему-то не происходило.
Потому что во всем его облике ощущался странный вызов — вызов любой попытке привести его к любому убогому знаменателю, потому что приковывало внимание твердое и тоскливое выражение глаз чувствительного человека. А чувствительный человек это вот что: перепутанные сутки — неважно, засохшие остатки еды, находки и разлуки — неважно, и залпом литры воды из-под крана, и последнее отвращение от стопки бумаги или от костенеющего холста поперек комнаты — это все неважно, а потом лечь на матрац не раздеваясь, под пальто, и дрожать дрожью почти алкогольной и проспать двое суток, проснуться на рассвете, взглянуть и сказать — ничего, прилично, и поставить подпись, а потом осторожно уйти из дома и идти по улицам, где люди спешат на работу, и думать, что вот никто не знает, а дело сделано. Вот что такое чувствительный человек для тех, кто понимает в этом толк.