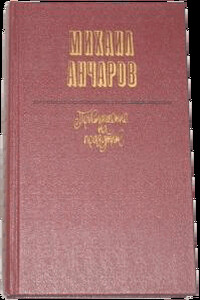Этот синий апрель | страница 64
Дворники скребут снег, и он слышит звуки, и значит, придет весна, и откроют окна, и он услышит звон трамвая и крик воробьев.
Нет. Радость не проходила.
Захотев испытать ее устойчивость, Гошка припомнил выставку — и ничего, тоска не появлялась. Ну что ж — значит, искусство, мечты о нем, догадка, что и Гошке предстоит прикоснуться к нему, не оправдались, и это не страшно, значит, Гошка будет не описывать, как люди дышат, а дышать. Потому что это очень приятно.
Вместе со всеми он спустился в лифте, вышел на улицу и обнаружил на редкость прекрасный мир, наполненный людьми с озабоченными лицами. Нет, его уже ничто не могло сбить на старое.
Гошка позвонил высокой дипломнице.
— Нину, пожалуйста. Але, Нина? Это Панфилов говорит. Ты что смеешься?… — Гошка повесил трубку и лениво подумал: «Откуда она узнала, что я позову ее ехать к Николаю Васильевичу?» Хотя что тут удивительного? Она просто шла по внешнему кругу — молодого офицера пригласил в мастерскую академик живописи, офицер — обрадовался и боится упустить случай — это же так интересно. Так оно и выглядело, так оно и было на самом деле, и, видимо, многие, с кем знакомился этот художник, поддавались его дружелюбию и торопились закрепить знакомство. Она только не могла знать, эта красивая девушка, что в промежутке между этой встречей в музее и этим звонком Гошке расхотелось жить.
Вчера пришел Костя Якушев и сказал:
— Гошка, пошли на выставку Кончаловского. На Кузнецком в салоне выставка, как до войны.
— А чего я там не видел?
— Говорят, его скоро формалистом объявят. Аносов тоже пойдет.
…Им как говорили до войны? Надо стремиться к знаниям. Они и стремились, благушинские, люди окраины, как им было не стремиться, когда старшие твердили — не ленитесь, байбаки, для вас воевали со всей Антантой, голодали, старались, дома строили — вам в них жить, глотайте театры, выставки, библиотеки — будете знать все, что накопила культура. Они и глотали. Но потом было три войны — финская, германская и японская, и Благуша стала, как роща после обстрела. А потом, кто остался жив, вернулся на Благушу, оплакал свое положенное на душевных пепелищах, отскрипел зубами по ночам в лютой мальчишеской тоске и вышел на улицу с сухими глазами.
Начиналась зима. Кузнецкий был в мокром снегу. Пора уже менять офицерскую фуражку на ушанку, но не хотелось.
Гошка не любил ушанку. Завяжешь тесемки под подбородком — и сразу похож на младенца-кретина. Конечно, тепло, однако выглядываешь из шапки, как пес из будки. А в фуражке хоть и продувают все ветра, однако потрешь ладонями уши — и сразу чувствуешь себя человеком. А этого хотелось больше всего — быть человеком.