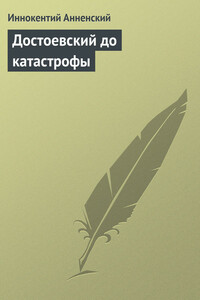А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии | страница 16
Остается в заключение коснуться вопроса, который возникает невольно, какого бы мы ни изучали поэта: как относился он к творчеству и не дал ли каких-нибудь разъяснений относительно его извечной тайны?
Я уже говорил об источниках майковского вдохновения, о накоплении впечатлений и их первой фантастической переработке. Еще юношей в 1842 г. Майков писал, что чувствует,
Метафора «прозябают» — великолепная метафора и в высшей степени очень характерна для такого органического творчества, как майковское, но моменты в этих двух стихах размещены неверно.
Через 26 лет в одной небольшой пьесе, истинном перле майковской лирики, это выражение мысли прозябают было очень изящно иллюстрировано:
Для Майкова вообще очень характерно ботаническое уподобление творчества.
В 1887 г., приветствуя великого князя Константина Константиновича, поэт говорит, что сам Майков уже
Метафору из той же области дает он и в одном из стихотворений 1889 г.
Поэтическая мысль может, по признанию Майкова, жить в душе поэта очень долго, но, в отличие от обиходной, мимолетной, и вообще нетворческой, она не пропадает:
Вдохновение переводит мысль в образ, объективирует и оформляет ее. Для Майкова вдохновение было светом, который извлекает мысль из тумана неопределенности, заменившего глубокую тьму ее зарождения. Характерно, что для Майкова, как созерцателя по преимуществу, т. е. человека, живущего более зрительными, чем слуховыми впечатлениями, вдохновение метафоризируется именно новым светом, а не небесным глаголом, не пророческим гласом, не дыханием божества.
Поэт указывает и на почву, на которой возникает вдохновение: эта почва — страдание.