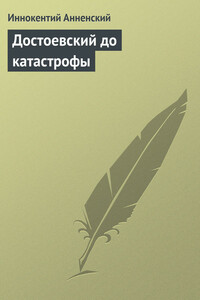А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии | страница 12
Беспредметное молодое чувство мелькает в ранней антологии Майкова очень редко и мимолетно, в виде желанья бури и тревог, и воли дорогой[107] или воззвания:
Стихийные эмоции заслоняются в октавах Майкова образом, барельефом,[109] рисунком или тем искусственным эпикуреизмом, который позже он воспел в Люции, осудил в Деции[110] и забыл на склоне дней.
Наиболее живым и естественным является общение с античным миром в «Очерках Рима» (1843–1847), «Камеях» (1851–1857) и неаполитанском альбоме (1858–1859), а особенно в первых двух группах.
В «Очерках Рима» картины современного города и красота природы, людей и жизни, которую поэт наблюдал сам, мешается с красотой античного мира, которая живей и осязательней грезится поэту в этой обстановке. Эпикуреизм из поэтической схемы делается уже конкретным предметом наблюдения, конечно, в элементарных грубых формах у различных Lorenzo и Pepino.[111] С другой стороны, появляются эскизы тех фигур, положений, контрастов, которые позже надолго сделаются центром поэзии Майкова: назревают его «Три смерти», «Два мира».
Мы находим в названном цикле два этюда к «Трем смертям». В 1845 г. в пьесе «Древний Рим»[112] еще нет и речи не только о контрасте Деция с Лидой и Марцеллом,[113] но и о контрасте между Люцием и Сенекой.[114]
Гордый римский патриций, взращенный республикой, еще царит нераздельно над душой поэта.
Ниже его, где-то совсем внизу, поэту являемся мы,
Пьеса заканчивается завещанием Люциева прообраза.
Годом позже Майков написал «Игры». Здесь выступает на сцену контраст. С одной стороны, старый римлянин, который любуется на бой гладиаторов, с другой — афинский юноша, который им возмущен, привык
Рукоплескать одним я стройным лиры звукам, Одним жрецам искусств, не воплям и не мукам…
Старик на это отвечает, что он, римлянин, напротив, рад
Пока старик спорит с юношей, Майков находится где-то в стороне: но жестокому старику все же принадлежит последнее и полнее обставленное слово, притом 25-летний поэт, вероятно, захотел бы надеть скорее маску старого патриция, чем юного афинянина. Деций и Люций назревают.