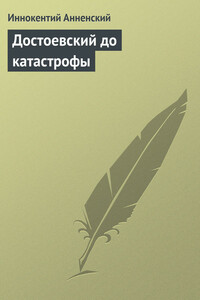Пушкин и Царское Село | страница 11
В дамских устах Лицею присвоивался тоже не особенно лестный эпитет «l'inevitable».[51]
В последние годы пребывания в школе Пушкин сблизился в Царском с некоторыми из офицеров лейб-гусарского полка. Из них один особенно, П. Я. Чаадаев, имел на юношу большое влияние, сохранившееся потом чуть ли не на всю жизнь. Он был несколько — года на четыре — старше Пушкина, но гораздо его серьезнее в период первого знакомства. В известном послании с юга[52] поэт связывает с именем Чаадаева все лучшие свои воспоминания о Царском; он ставит под эгиду своего друга и вдохновенный труд, и жажду размышлений, и стремления свои сравняться с веком по образованию. Я с почтением повторяю сегодня имя Чаадаева, потому что Пушкин повторял его всегда с любовью. Между лицейскими товарищами Пушкин выделялся начитанностью: еще ребенком он познакомился в библиотеке отца с литературой прошлого века, конечно, французской или той, которую знали и признавали французы, а в гостиной родителей перевидал всех корифеев нашей литературы начала века: и Дмитриева, и Карамзина, и Жуковского, и Батюшкова. Но, вероятно, не раньше Царского Села в нем созрела мысль посвятить себя именно писательству, и некоторых из товарищей Пушкин в связи с этим не раз вспоминал с благородной признательностью, особенно Дельвига:
Первое из стихотворений Пушкина, напечатанное в большом журнале («Другу стихотворцу»,[54] в «Вестнике Европы» за 1814 г.), показывает, как серьезно работала мысль юноши, едва достигшего 15 лет, над вопросами о судьбе писателей, особенно поэтов.
Эта юношеская пьеса была первой ступенью того «культа страданий поэтов и великих людей», который прославил Пушкина. Конечно, судьба не раз заставляла и самого Пушкина бросать милые ему места и порывать дружеские связи: так было с его поспешным отъездом на юг и с обязательным возвращением в Михайловское, и даже с препровождением в столицу. И сама жизнь могла научить Пушкина страданиям поэта. Но было бы неправильно думать, что, изображая Овидия, Шенье, Байрона, Пушкин проектировал на бумагу только свой собственный душевный мир, свои обиды. Люди, которые делали это, — Лермонтов в юности, например, — обыкновенно повторялись. Наблюдения над поэзией Пушкина, наоборот, убеждают нас в большом разнообразии, даже в картинах личного характера. Если он хотел иногда взглянуть прежними глазами, почувствовать себя прежним человеком, он не мог этого сделать: его воспоминания были сознанием чувства невозвратности: так было с «Воспоминаниями в Царском Селе», то же видим в пьесе «Опять на родине». Всякий раз кисть поэта с волшебной точностью воспроизводила то, что поэт чувствовал теперь, а не то, что переживал прежде. С этим связана и поэтическая смелость его признаний, и та возвышенная искренность поэта, которая так резко отличается и от экспансивной, безразличной правдивости ребенка, и от холодного цинизма «демонической» натуры.