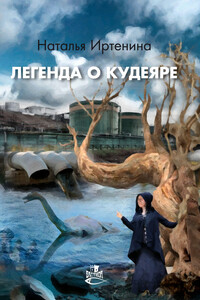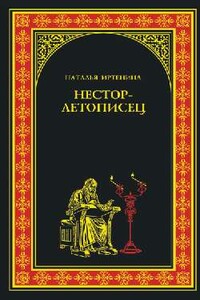«Меж зыбью и звездою» («Две беспредельности» Ф.И. Тютчева) | страница 32
Подобный разрыв между тем, что снаружи, и тем, что внутри, в «тайниках» сам Федор Иванович попытался объяснить в одном из писем к жене: «Как все, что представляется нашему уму несоразмерно значительным, будь то ожидания или позже воспоминания, занимает мало места в действительности!..»[110] Отгадка в этом — в иллюзии несоразмерности. Действительно, если смотреть извне, со стороны бесстрастной реальности на все человеческие переживания — они покажутся столь несущественными, малозначащими даже в масштабе всей человеческой жизни, что ж говорить о целом мире! Но стоит только взглянуть на этот целый мир глазами одного чувствующего и страдающего (или быть может упивающегося своим счастьем?) человека — чем ему покажется вся эта огромность и необъятность? Вероятно, чем-то несоразмерно незначительным, занимающим так мало места в личных переживаниях. Этот целый мир либо посылается в тартарары, либо — море становится по колено, горы — по плечу, все остальное — воздушным шариком. Где истина? Для Тютчева истина состояла в том, что «целый внешний мир» — своим чередом, «тайники» души — своим. Что происходило в этих тайниках — там и оставалось. Лето 1849 г. дало знать о себе лишь в стихах — не более.
Внешне все оставалось по-прежнему. Политика, салоны, Россия, любовь и… тоска. Да, да, она уцелела, невзирая на новую жизнь и новую любовь, она как и раньше мучила и отравляла смертным томлением душу Тютчева. Поэт был обречен на тоску, как бывают обречены на медленную смерть, и в то же время не подлежит никакому сомнению его могучая жизненность, неистребимый жизненный инстинкт. И чем больше гложет его тоска, тем сильнее в нем становится этот инстинкт, с тем большей страстностью он впитывает в себя жизнь, без оглядки бросается в кипучий котел истории, политики, волнений и впечатлений, тем громче в нем слышен голос самой жизни. Его жажда жизни лишь сильнее закалялась в этом тираноборстве, она воздвигала все больше баррикад перед этим тоскливым чудовищем.
В 60 лет Тютчев вновь начинает посещать университетские лекции, за два года до смерти, будучи уже почти 70-летним стариком увлеченно следит за ходом «нечаевского процесса», буквально целые сутки проводя в зале суда. Последние два с половиной десятилетия его жизни характеризует самым непосредственным образом фраза одной из его дочерей: «Папа блуждает из одного салона в другой».[111] Эти «блуждания», непоседливость, увлеченность, самый «рассеянный» образ жизни и есть столь необходимые Тютчеву баррикады, устроенные им против наступавших на него «тоски и ужаса». «Единственной целью» их по его признанию было «избежать во что бы то ни стало в течение 18 часов из 24 всякой серьезной встречи с самим собой».