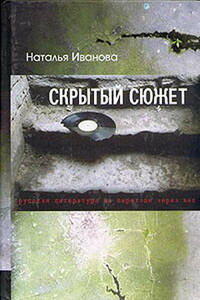«Меж зыбью и звездою» («Две беспредельности» Ф.И. Тютчева) | страница 15
Любовь поэта к Елене Александровне была в буквальном смысле этого слова роковой — для нее. Тютчевский дар предвидения уже в самом начале этой связи подсказал ему трагическую развязку незаконной любви:
Он знал, что несет своей любовью гибель, смерть любимой («О, как убийственно мы любим…»), знал, но не отрекался от нее — потому что сделать это, значило отречься и от себя, обречь себя на медленную пытку. Самопожертвование не входило в тютчевскую жизненную программу. Он выпил любовную чашу до дна, но ему же пришлось и расплачиваться за эту ненасытную, неутоляемую жажду жизни и жажду любви. Смерть Денисьевой через 14 лет страстной, изнывающей любви от скоротечной чахотки легла на плечи Тютчева страшным грузом, тяжкой виной перед ней — той, которую он все эти годы ставил в фальшивое положение, сделал почти что парией в обществе, лишил надежд на будущее. Ценой всего этого стало «чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты»[63] внутри него, «ежеминутная пытка» в течение многих месяцев после ее смерти, постоянные самообвинения в собственном жестокосердии, в том, что он один был причиной гибели возлюбленной. «Сознание его вины несомненно удесятеряло его горе»,[64] — свидетельствует А.И.Георгиевский. «Не живется — не живется — не живется…»,[65] — повторяет Тютчев в письмах крик отчаяния. Но ведь он это знал, знал с самого начала, что придется расплачиваться такой страшной ценой, муками осиротевшей любви и нечистой совести. Знал как поэт, философ, но как человек — всего лишь слабый человек! — гнал от себя эти мысли: «Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы…»[66] Но отогнать от себя этой сознательной слепотой «неотразимый Рок» было не в его силах. Сделанный вовремя выбор быть может помог бы избежать страшных мук. Но ведь тогда не было бы и этих 14 лет любовного плена — сладостного, волнительного и тоже мучительного — но по-иному. Этот плен утолял тютчевскую жажду жизни. «Все или ничего» — это не для него, ему нужно только «все», «ничего» для него не существовало, оно было небытием.