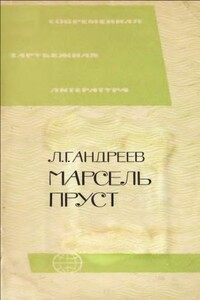Феномен Артюра Рембо | страница 28
Рембо не просто осудил «ясновидение». Он удивительно точно определил безнравственность декадентской асоциальности и даже социальную ее природу поставив рядом «ложь и лень», пороки и «отвращение к труду», к трудящемуся человеку. Потеря идеалов, потеря корней обществом, которое может показаться преуспевающим, идущим к прогрессу, к «знанию», — такова основа, первопричина «дурной крови». Рембо — «посторонний», он вне общества, основанного на религии и на «законе», он осуждает это общество, «маньяков, злодеев, скупцов», всех этих «негров», то есть цивилизованных, по видимости, дикарей. Но вне общества на долю «я» остается «дебош» — и одиночество, неизбежная гибель. Лучше, однако, казнь, предпочтительнее самоубийство, нежели «жизнь французская».
Все это очень мудро — и осознание исчерпывающихся возможностей буржуазного прогресса, его пугающей относительности в сфере искусства и морали, и ощущение меры, качества той свободы, которую завоевывает человек, отрываясь от «закона», оставаясь наедине со своим экспериментом, со своим вызовом. Поистине, феноменальный юноша предчувствовал вопросы, которые встанут перед двадцатым веком.
Путь «ясновидца» — хождение по немыслимым, невыносимым мукам, нисхождение в ад, где нет снисхождения, немыслимо прощение. И одновременно это высокий порыв, опьянение истиной, поиск совершенства. «Пора в аду» пропитана безмерной горечью, отчаянием от несостоявшегося и несбыточного. Но «я» преисполнено гордыней; ведь только что оно было всесильным Творцом в мире «озарений», и оно все еще ощущает в себе силы безмерные. «Я» — своего рода Прометей, прикованный к скале своего поражения, своей гибели. Он во гневе — и в сознании своего бессилия.
Рембо поставил опыт над самой человеческой природой. «Ясновидение» оказалось способом ее извращения. «Ясновидец» Рембо — иллюстрация характерного процесса «разрушения личности». Зарождавшийся в ту эпоху декаданс применительно к Рембо был даже не «упадком», а «падением», падением и в самом обыкновенном, унизительном смысле этого слова. И Рембо исповедуется в «свинской любви», он не стесняется показать ту грязь, в которой барахтался несколько лет.
Что же искусство в этом безумии, наконец достигнутом? «Алхимия слова», галлюцинации — «я ясно видел мечеть на месте завода». Такая «подстановка», такие видения и есть «озарения» последнего периода творчества Рембо. Метафора поглотила реальность, ассоциативный ряд становится поистине бесконечным, за ним следовать крайне трудно, разве что становясь на путь Рембо — то есть на путь сочинения все новых и новых ассоциаций. Однако соревноваться с могучим ассоциативным мышлением Рембо не представляется возможным — и приходится оставлять поэта в его одиноком и скорбном пути.