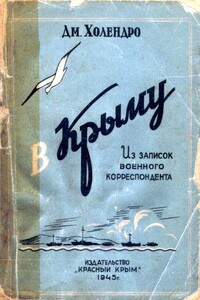Зимняя война | страница 127
Вы завтра убьете друг друга. Но никогда не узнаете мертвые родные лица.
За плечами у вас солдатские вещмешки.
И у него за плечами — вещмешок; и он вышагивает по рынку, как гусь, вытянув шею, подняв любопытствующе голову. О, счастье отдохнуть от взрывов, от самолетного жуткого гула! Он ест всю позабытую земную красоту глазами — купить не на что. Стайкой перед ним проносятся иностранные господа: «О, йес!.. О, ноу!.. Бьютифул!..»
— Бьютифул, — бормочет он сквозь зубы, сплевывает. — Вери, вери гуд энд бьютифул. Что случилось с деньгами в любимой стране, пока я был на Войне? Я ничего не понимаю. Но скоро пойму.
С ближней церковки, вздымающейся над рынком белой бычьей головой, с колокольни несется веселый звон.
«По ком этот звон?.. Да, и по мне тоже. Какой век сейчас, тоже не пойму. Вчера ли я стрелял из автомата?! Танки… когда идут танки, такой шум стоит, люди глохнут… А здесь — стылые сливки… облепиха в стаканах. Какой год?.. Что-то случилось со временем. Что-то не так. Смещенье произошло. Вперед?! Назад… Остановка в пути. Я запутался — это лабиринт. Дьявол! Я вернулся… или я сплю?.. Что-то должно произойти. Что?!»
Навстречу ему на снег выбегает босая девушка. Она красавица. Она больная — бессмысленная улыбка обнажает белые, как сердцевинки кедровых орешков, зубы. Платье на ней — мешок, больничный длинный балахон. Она танцует близ Юргенса на снегу рынка — босыми ступнями играет, пятками притопывает, поет-скалится:
— А я сбежала, я сбежала от них!.. Не догонят!.. Не убьют!.. Не проколют жилы, не разрежут кости!.. Я сбежала от них на вольную волю, от тюремщиков!.. Идите на. й! — я им сказала, ну, они и отклеились. А мы с моим возлюбленным жили так долго… так долго, что жили-жили — и Черным ходом, насквозь, навылет… в Будущее вышли!.. Вышли… — а его-то и нет, Будущего. Нет как нет!.. — и все. Как нет?!.. Больно!.. Больно же это!.. Глаза себе вырезать ножом хотела. Чтоб не видеть того, чего нет. Люди в черных халатах, в противных маскхалатах, зачем вы не дали мне вырезать мои глаза?!.. Я была бы слепой музыкант, я бы песни вам дивные пела. Но и так я веселюсь, лицо на снег кладу, лицом в снег падаю — и молодею на глазах!.. Эй, солдатик!.. Ты с какой такой Войны заявился?!.. Нас ею в школах еще запугали… Поздравляю!.. живой вернулся… Дай поцелую…
Она протянула к нему губы, руки.
Он, морщась, пошарив в кармане, подал ей монету.
— На, дура, купи себе хурму, что ли.
Она подкинула монету на ладони, глядела на нее миг один безумными глазами. Размахнулась, зашвырнула деньгу в снег, налившийся под ослепительным Солнцем розовой кровью. Внезапно изменилась в лице. Щеки ее побледнели мелово. Зрачки черно расширились, глаза ее как вырыли лопатой. И все ее лицо — на мгновенье — на всю пугающую вечность — стало лицом той девушки, про которую, путаясь и корежа язык, рассказал ему Исупов: той, наклонившейся над змеиной ямой, той, оставшейся в этапе стоять над толпой, когда все этапники сели в грязь по приказу. Эти тонкие русые волосы, летящие по ветру. Эта серая зелень прозрачных, как лесные озера, глубоких, кипящих невыплаканными слезами глаз.